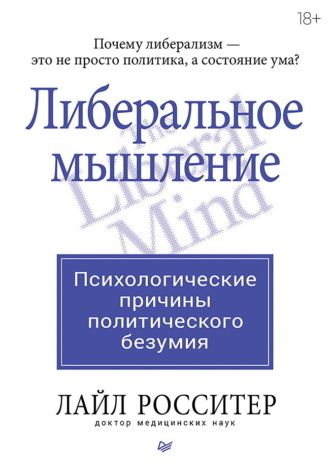
Полная версия
Либеральное мышление: психологические причины политического безумия
Жизнь в группе
Спустя какое-то время на острове к Робинзону присоединился человек по имени Пятница, началось их общение и взаимодействие, – и сценарий тут же значительно усложнился, притом для них обоих. Свобода Робинзона поступать только по своему желанию закончилась, зато теперь нужно учитывать возможные последствия своих действий для Пятницы, особенно если что-то Пятнице вдруг не понравится и тот, чего доброго, захочет отомстить. Если только Робинзону не вздумается подчинить себе Пятницу (а дело это непростое и вообще сомнительное), придется обдумать какие-нибудь взаимоприемлемые условия сотрудничества с ним.
Изменившаяся ситуация требует неких «социальных» и «политических» договоренностей по поводу взаимоотношений Робинзона и Пятницы. Чтобы все это имело смысл, договоренности должны, по сути, являться правилами: соблюдение их обязательно. Так, наши герои устанавливают моральные и этические нормы, определяющие, как они должны вести себя по отношению друг к другу. Чтобы правила обладали нормативной силой, их должны признавать обе стороны. Это особенно важно: и тот и другой берут на себя моральное обязательство следовать общим установкам. Лишь это обязательство может обеспечить регулирующую основу их мирного сосуществования. В противном случае главным политическим принципом в их маленьком обществе, где людей всего лишь двое, стало бы запугивание, основанное на угрозе насилия, – обычная мораль мафии.
Конечно, такой ход рассуждений больше применим к более крупным группам. По мере того как их взаимодействия усложняются, сообществам приходится устанавливать правила, всесторонне регулирующие их поведение: сюда будет входить следование обычаям, вопросам морали и этики, законам, на которые надо опираться в решении своих задач. Правила четко обозначат, как надо и как не надо жить в этом сообществе. Ведь в них заложены смыслы ценностных суждений тех же самых людей, чью жизнь эти правила направляют и регулируют. Они по определению не могут быть отделены от ценностных установок, иначе как бы они определяли, какие действия желательны и допустимы, а какие нет; что такое хорошо и что такое плохо? В основе всех этих правил – представления людей о верном и неправильном, выраженные в более или менее четких этических и моральных принципах.
Подводные камни государственной системы
Если личные договоренности почему-то оказываются беспомощны в вопросах контроля антисоциального поведения в обществе, нужно создавать формальную систему законов и организовывать работу судебной власти. Такие шаги направлены на то, чтобы побудить людей вести себя как подобает; иметь возможность решать споры между гражданами; удовлетворять требование народа справедливо наказывать преступников.
Но система законов, от которых нельзя отступать, позволяет определенной части общества контролировать поведение других, прибегая к насилию или угрозам насилия. И теперь любое объединение граждан оказывается на скользкой дорожке социальной организации. Опасность заключается в том, что власть отныне принадлежит органу, уполномоченному применять физическую силу, а вероятность злоупотребления этой властью неизменно высока.
Когда один такой орган получает полное право на применение насилия с целью обеспечивать соблюдение правил, его уже причисляют к тому, что называется государственной системой. Законодатели всегда четко провозглашают свои цели – это и защита прав людей, и поддержание социального порядка. Но даже преисполненные самых благих намерений, чиновники регулярно нарушают права людей и подрывают порядок, который они призваны защищать. И поскольку это несправедливое противоречие становится возможным благодаря полному праву – буквально монополии – на применение силы, то важнейшие проблемы политической теории можно сформулировать в виде следующих вопросов:
✶ К какой сфере относятся действия человека, к которым может применяться государственное насилие?
✶ Каким образом легитимное насилие может применяться к лицам, нарушающим правила своего государства?
✶ Что представляет собой равновесие между свободой и ограничениями свободы?
✶ Какие доводы могут убедить граждан, имеющих собственные суждения по поводу морали, в допустимости применения силы властями?
Ответы на эти и подобные им вопросы определяют, какую роль играет свобода личности в том или ином обществе.
Так, например, в современной Америке голос индивидуальной свободы уже едва слышен и во всей направленности политической мысли на Западе явно преобладает отчетливо выраженный коллективистский уклон. Для идеалов свободы и социального порядка такая тенденция разрушительна, и взрослению личности она едва ли способствует. Вместо того чтобы развивать гражданское общество грамотных, морально зрелых людей, способных решать жизненные задачи путем добровольного сотрудничества, современная либеральная повестка формирует иррациональную форму общества, состоящего из инфантильных «взрослых», которые, как дети, хотят зависеть от заботливых властей. В своих неустанных попытках обобществлять основные экономические, социальные и политические процессы либеральная программа полностью отвергает индивидуальные качества, необходимые как самому свободному человеку, так и интересам материальной безопасности, добровольного сотрудничества и социального порядка.
2. Зачем нужны правила
Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству.
Иммануил КантПравила жизни
Природа человека и обстоятельства, в которых он живет, требуют установления определенных правил как для граждан, так и для правительств, чтобы обеспечить законные свободы, максимально расширить перспективы удовлетворенности и свести к минимуму вероятность возникновения социальных беспорядков. Несмотря на распространенность морального релятивизма в современных западных обществах, эти правила, бесспорно, должны иметь под собой рациональную основу. Они должны быть достаточно обоснованы с позиции биологической и психологической природы человека, а также экономическими, социальными и политическими реалиями человеческого бытия. Таким правилам недопустимо быть абстрактными и шаткими, если мы рассчитываем хоть на какую-то их пользу.
На чем могли бы держаться подобные правила? Давайте снова обратимся к реалиям Робинзона Крузо до его знакомства с Пятницей. Единственные правила, имеющие значение для человека, оказавшегося в изоляции, – те, что обеспечивают его в материальном плане и приносят, насколько это возможно, личное удовлетворение плодами собственного труда, Он может наслаждаться полной свободой и делать все, что захочет. Ему не надо ни с кем считаться. Поскольку он живет сам по себе, его усилия по самообеспечению ни на кого экономически не повлияют – ни в хорошую, ни в плохую сторону. Соответственно, и социального влияния он ни на кого не окажет. А поскольку наш Робинзон – единственный источник силы и власти в своей жизни, ему не нужно заботиться о каких-либо политических механизмах или системе законов, подлежащих в его ситуации к обязательному исполнению. Нет и других людей, чтобы спорить по поводу правомерности применения силы друг к другу; нет и полиции, которая могла бы применять эту самую силу.
Но с появлением Пятницы правила жизни Робинзона становятся совсем иными. Те или иные действия, что совершает каждый человек, могут как-то затронуть другого, и потому каждое из них – потенциальный источник конфликта. Поскольку у них общая материальная среда с ограниченными ресурсами и поскольку каждый из них будет использовать эту среду, чтобы изготавливать то, что ему нужно, действия поселенцев влияют друг на друга экономически. Даже если оба останутся затворниками, общаться им, скорее всего, придется, а значит, они станут влиять друг на друга в социальном плане. Если возникнут разногласия, придется придумывать способы их разрешения, а это уже влияние друг на друга в политическом плане. Словом, нет больше абсолютной свободы ни для Робинзона, ни для Пятницы. Чтобы сохранить мир, каждому из них придется в какой-то степени ограничить свои действия. Без правил взаимоотношений им никак не обойтись, ведь нужно продержаться неопределенное время в атмосфере либо взаимоподдержки, либо вражды.
Единственная рациональная цель таких правил – укрепление сотрудничества и уменьшение конфликтов между людьми. Других причин ограничивать свободу личности нет. Конечно, из всего этого следует, что человеческая жизнь в целом и жизни Робинзона и Пятницы в частности – это высший дар, который, как предполагается, стоит беречь. Иначе зачем обсуждать все эти правила жизни и нравственности? Ценность бытия, отраженная в нормальном человеческом желании жить долго и хорошо, – необходимая основа для рационального этического поведения, что так или иначе рассматривается с точки зрения морали во всех религиозных учениях.
Вопросы доброты и нравственности
Хорошие, или правильные с позиции морали, поступки и качества, такие как взаимопомощь, честность, любовь, сочувствие, понимание, доброта, терпимость, терпение, милосердие, уважение к личности и собственности других людей и т. д., а также материальная стабильность и спокойствие – все это считается благом не в каком-то экзистенциальном свете, а в прямой связи с природой и душевным миром человека. Соответственно, дурные или безнравственные свойства или дела: эгоизм, черствость, ложь, убийство, садизм, мошенничество, воровство и прочие пороки – плохи и аморальны по отношению к природе и бытию человека. Обе группы постоянно воздействуют на биологическую, психологическую и социальную природу человека, порождая как радость и душевный покой, так и страдания, боль.
Преступления против личности, такие как убийство, изнасилование, избиение, – это абсолютное зло, поскольку в силу нашего понимания того, как устроен человек, они влекут за собой мучения и смерть. Преступления против собственности (кража, мошенничество) – также зло, ведь, вторгаясь в человеческую природу, они взламывают само понятие защиты собственности, порой жизненно необходимой, буквально отнимая у человека шанс на завтрашний день. Гражданские правонарушения, в отличие от уголовных, например определенные формы халатности, можно причислить к примерам крупного вреда, ведь они нарушают разумные ожидания честного поведения, столь необходимого, когда люди настроены на совместную деятельность. Говоря в более общем смысле, все поступки, состояния и обстоятельства являются либо добром, либо злом только относительно их воздействия на человеческую природу и реалии человеческого существования.
Золотое правило
У Робинзона и Пятницы есть выбор: договариваться или драться. Пусть сами решат, какой способ взаимодействия станет основным. Если они решили стать товарищами и мирными соседями, но допускают, что в будущем у них могут возникнуть разногласия, то, по крайней мере, они негласно примут для себя некий набор установок, позволяющих улаживать конфликты, обходиться без нападений друг на друга и вообще действовать в согласии. Признавая свою физическую уязвимость, они договорятся обходиться без актов агрессии. Признавая, что их жизнь и безопасность зависят от собственной бережливости к тому, что им принадлежит (это земля, жилище, одежда, еда, инструменты, личные вещи и т. д.), они не позволят себе ограбить или испортить имущество другого. Признавая свое желание не быть обманутыми, например, при обмене нужными предметами, они примут решение соблюдать определенные договоренности, особенно те, что касаются передачи права собственности или контроля над материальными благами. И еще им не помешает позаботиться о том, как исключить нарушение уговора. Условившись никогда не поступать тем или иным образом (а неправильные поступки, обсуждая, что с ними не так, можно исключать постепенно, один за другим), Робинзон и Пятница выработают свод правил, поддерживающих сотрудничество и по соглашению являющихся обязательными для обеих сторон.
И пусть этот сценарий перехода к правилам довольно причудлив, мы можем представить, что нечто подобное должно было исторически происходить и среди людей, живущих в сообществе, а этические принципы различных цивилизаций – итог многовековых «экспериментов» в области организации жизненного уклада. Думается, что сценарий законотворчества Робинзона покажется менее заковыристым, если представить, что после очередного кораблекрушения на берег попадают еще девяносто восемь выживших. Вместе с Робинзоном и Пятницей на острове теперь проживает сотня отдельных «источников инициативы». В ходе взаимодействия и общения они выдадут бесконечное число возможностей как для сотрудничества, так и для конфликтов. От того, какие механизмы они выберут в качестве нормативных, будет зависеть, станет ли это небольшое скопление людей регулируемым обществом или нет.
Новым обитателям острова придется создать правила, регулирующие их действия, если им хочется побольше благополучия и поменьше страданий. Допустим, что все они оказались практичными разумными людьми – тогда они непременно уделят внимание этической и нравственной сфере поведения. И их система будет отражением морального кодекса и общепринятых правил цивилизованного человека: сюда войдут взаимоуважение и взаимовыручка, равно как и запрет на все виды преступлений против личности (убийство, изнасилование, нападение, избиение, воровство, грабеж, мошенничество и т. д.). Каждый примет как данность этот запрет, и любой член общества будет согласен добровольно подчиниться этим ограничениям – в уверенности, что все девяносто девять других членов общества поступят так же. Такое соглашение в огромной степени поможет формированию атмосферы индивидуальной свободы, в которой каждый участник группы будет рассчитывать жить в относительной физической безопасности. Кроме того, группа вправе договориться о том, что каждый житель острова сможет добровольно оказывать другим любую помощь, на которую способен, но заставлять никто никого не будет. И наказания в случае отказа помочь также не последует. Это правило отражает этику взаимной заботы, но не принуждает человека кому-либо помогать или служить.
Будучи практичными людьми с развитой нравственностью, «островитяне», скорее всего, придут к выводу, что каждому будет лучше принять этот элементарный общественный договор. Человек таким образом берет на себя обязательство следовать тому, что называют Золотым правилом нравственности. У правила есть две формулировки: негативная и позитивная.
✶ Негативная формулировка призывает вас не делать другому человеку ничего такого, чего бы вы не хотели, чтобы он сделал вам.
✶ Позитивная гласит, что с другими людьми вы должны обращаться так, как вы хотели бы, чтобы они обращались с вами.
В обоих случаях правило подразумевает этику помощи и заботы по отношению к людям, а не предлагает вам некий договор о невмешательстве. Одобрение обществом обеих формулировок этого правила устанавливает базовый социальный договор – элементарную политическую систему, основанную на моральных и этических принципах и помогающую как избегать конфликтов, так и урегулировать их. И хотя Золотое правило не охватывает всех аспектов этики и морали, факт его многотысячелетнего шествия сквозь все мировые цивилизации вовсе не случаен. Какими бы словами его ни переформулировали, правило все так же отражает естественную эволюционную склонность разумных людей жить в основанных на сотрудничестве социальных группах, соглашаясь с определенными ограничениями в поведении.
Интерсубъективный подход
Мы рассматриваем сценарий жизни на необитаемом острове, предполагающий, что Робинзон и его «компаньоны» – практичные добропорядочные люди, умеющие думать и добровольно приходить к рациональному социальному соглашению. Определенные правила, или законы взаимодействия, на которых основано такое соглашение, определяют рамки приемлемого и неприемлемого поведения, опираясь на уже установленные моральные принципы и знания о том, что будет, если правила соблюдать или нарушать. Область приемлемого («законного») поведения будет включать поступки, повадки и обычаи, которые либо способствуют благополучию человека, либо нейтральны по отношению к нему. Эта область исключает как неприемлемое («незаконное») все виды поведения, которые разрушают человеческое благополучие, особенно те, что посягают на права личности и собственность людей. Исходя из этих предпосылок, социальное устройство представляет собой продукт рационального мышления: оно логически выстраивается из повседневных наблюдений за взаимодействием людей и за их уязвимостью.
Дополнительный взгляд на связи между людьми, называемый интерсубъективным подходом, предполагает иное и более фундаментальное влияние на эволюцию механизмов человеческих взаимоотношений, и такое влияние выходит за рамки чисто прагматических соображений. Эта относительно новая концепция была разработана Столороу, Селигманом, Бенджамином, Этвудом и другими специалистами в области психологии и психиатрии, а предвосхитила ее теория Эриксона о биологическом и культурном взаимодействии в развитии человека. Интерсубъективный подход рассматривает, среди прочего, способность «распознавать» либо в полной мере оценивать «субъективность», или глубину эмоционального состояния и поступков другого человека. Иными словами, способность смотреть на вещи чужими глазами. Она свойственна зрелым личностям, умеющим безошибочно разглядеть, что сейчас чувствует другой человек: его надежды и страхи, радости и печали, триумфы и поражения, сильные и слабые стороны, его явную компетентность и наивность.
Способность к такому глубокому восприятию другого не сводится к отстраненной констатации того, что мы заметили в ком-то те или иные черты или настроение. Речь идет скорее о глубинном, эмпатическом понимании того, каково это – испытывать такие эмоции, оказаться в таком состоянии. Столь восприимчивым людям достаточно тяжело проявлять агрессию против других отчасти потому, что их чуткость способна быстро создавать тонкую эмоциональную связь между людьми, а отчасти потому, что агрессия больно ударила бы в моральном плане по самому «эмпату», словно он сам себя ранил.
И неудивительно, что полное отсутствие такого рода отзывчивости свойственно социопату, абсолютно равнодушному к эмоциональному состоянию других, если только, конечно, ему от них ничего не нужно. Такой человек в принципе не может «влезть в чужую шкуру», проецируя на себя чью-то боль или радость. Одна из характерных черт социопата – неспособность испытывать чувство привязанности через эмоциональное понимание другого человека. Именно из-за такой слепоглухоты ему ничего не стоит проявлять к своим жертвам такую жестокость, которая любого, кто не лишен дара сочувствия, повергла бы в ужас.
Интерсубъективность и моральный долг
По природе человеческой и благодаря ее развитию способность реагировать на чужое душевное состояние других включает в себя не только проецирование на себя чувств и переживаний другого человека, но и умение сочувствовать ему. Более подробно мы поговорим об этом в части II нашей книги. Пока же стоит отметить, что в сопереживании, как его трактует интерсубъективный подход, кроется некий моральный долг перед человеком: в расчет принимается его субъективный опыт, а уж потом встает вопрос, действительно ли надо совершать действие, способное ему навредить. Тема индивидуальности другого человека важна для нашего сценария жизни на необитаемом острове. Поскольку обязательство считаться со взглядами Пятницы посягает на свободу Робинзона поступать по своему усмотрению, возникает резонный вопрос, почему бы ему просто не прикончить этого Пятницу как можно скорее. Ведь если, допустим, Пятница не будет больше путаться под ногами, Робинзон снова станет вольной птицей. Тот же вопрос можно задать и в отношении Пятницы, которому, вероятно, присутствие Робинзона тоже чем-то мешает. Согласитесь, многие из нас знают таких – оказавшихся в полном одиночестве и радующихся тому, что ни о ком теперь не нужно заботиться и переживать: у них словно гора с плеч свалилась, и продуманной эгоцентристской вселенной больше ничто не угрожает.
С другой стороны, что Робинзон, что Пятница могут отвергнуть мысль об убийстве из чисто практических соображений. Ведь если предположить, что их обоих нельзя назвать убежденными затворниками, наличие компаньона больше скрашивает жизнь, чем та самая пресловутая полная свобода. А еще им вдвоем легче выживать и отбиваться от хищников, и трудиться вместе гораздо эффективнее. Каждый из этих доводов говорит о том, что устранять соседа вовсе не обязательно.
Но все это лишь практические соображения, и ни одно из них не раскрывает истиной причины того, почему большинство людей в западном мире не стремятся так просто отнимать чужую жизнь. Дело, конечно же, в моральном отвращении, которое испытал бы каждый из нас, представив себя убийцей. Тогда возникает вопрос, почему мы испытываем столь сильное внутреннее неприятие насилия по отношению к другому человеку и почему вообще это табу стало основой человеческой морали.
С биологической точки зрения ясно, что люди (как и прочие организмы, не отсеянные эволюцией) едва ли выжили бы на этой земле, если бы в мозгу не было заложено врожденное свойство оставлять равных себе живыми. «Эгоистичный ген», как его метко окрестили, заинтересован в том, чтобы уберечь себя и не погибнуть в результате какого-нибудь геноцида, преднамеренного или случайного. Но, конечно, было бы интересно присмотреться и к другим причинам, помимо биологического преимущества, экономической пользы или религиозного запрета на убийство, – если бы они существовали.
Интерсубъективный подход, который сам по себе отражает заложенную эволюцией защиту от геноцида, вероятно, предлагает основу для возникновения табу на причинение вреда другим. И такая основа выходит за рамки традиционных трактовок. Она соотносится с идеей Альберта Швейцера о благоговении перед жизнью в принципе, но есть различия. Дело в более конкретной способности признавать, уважать – даже, пожалуй, почитать – не просто жизнь, а чужую «субъективность», индивидуальность. Благодаря этой способности в нашем мозгу начинает функционировать особый вид сознания, распознающий в человеке человека, а не что-то другое. И мы видим, что перед нами субъект, такой же, как мы – сознательное существо со своим бескрайним миром идей, образов, эмоций, чувств, стремлений, ожиданий и желаний… И он так же уязвим, как мы с вами, и нет ничего, что разительно отличало бы его от других. Такое пристальное осмысление откроет нам истину, что если уж сама мысль причинить себе боль или убить себя кажется нам гадкой и нелепой, то столь же негодной будет и мысль уничтожить себе подобного. Стоит нам поставить себя на место другого, в чем-то посочувствовать ему, мы тут же увидим его субъективное «я», которое думает и чувствует так же, как и мы.
И с такой точки зрения интерсубъективный подход подтверждает смысл морального долга Золотого правила по отношению к людям: уважайте другого человека как сознательное, самостоятельное существо, как независимую личность, которая имеет право на столь же хорошее отношение и такую же поддержку (как моральную, так и со стороны государства), на которую вы сами рассчитывали бы.
Интерсубъективный подход и государство
Итак, мы постепенно пришли к выводу, что,
✶ во-первых, интерсубъективный подход предполагает восприятие другого человека как самостоятельную личность, субъект, «живую душу» со своими правами;
✶ во-вторых, такое восприятие приводит к связи с ним через эмпатическое и симпатическое проецирование на себя его состояния, включая осознание того, что ему может быть больно.
Но интерсубъективный подход признает также личный суверенитет человека, его власть над самим собой и, следовательно, его право на свободу. Эта концепция резко контрастирует с любым взглядом на человека, который обезличивает или дегуманизирует его, призывая управлять им, словно вещью.
Отношение к другому как к неживому предмету, который нужно безжалостно использовать для достижения собственных целей, характерно для социопатов. С любой рациональной точки зрения, не только интерсубъективной, приравнивать человека к вещи аморально. А когда такое обращение – по сути, порабощение – переходит все границы допустимого, речь идет уже о преступлении против личности.
Но в гораздо больших масштабах регулярным обезличиванием граждан, стремясь любой ценой достигнуть своих политических целей, занимается правящая верхушка. Либеральной программе, например, свойственно превращать людей в «массы», превознося благополучие абстрактного «всего и всех» над суверенитетом личности, который впоследствии необходимо будет подчинить коллективным целям государства. Так и получается, что для государственного чиновника человек становится лишь объектом, которым следует управлять, – средством достижения цели. Значение придается лишь выгодам политической повестки, а не сознательному опыту личности при полном безразличии к субъективности индивида, чей суверенитет растворен внутри феноменов «большого коллективного»: во «всеобщей воле», в «великом обществе» или в «воле американского народа». Либеральные правительства планомерно и бессовестно манипулируют людьми, действуя якобы на их же благо. Какими бы добрыми ни были заявленные намерения, методы политиков в рамках этой программы по сути своей социопатичны.



