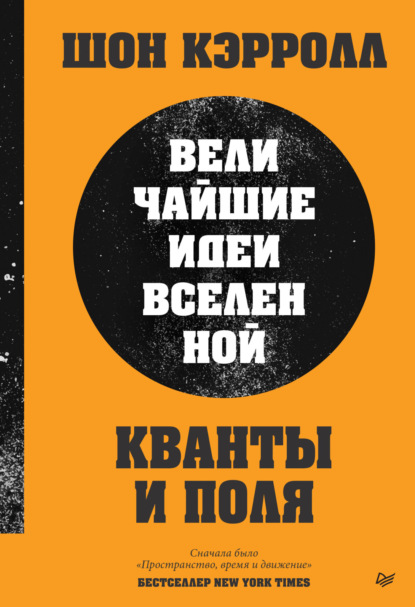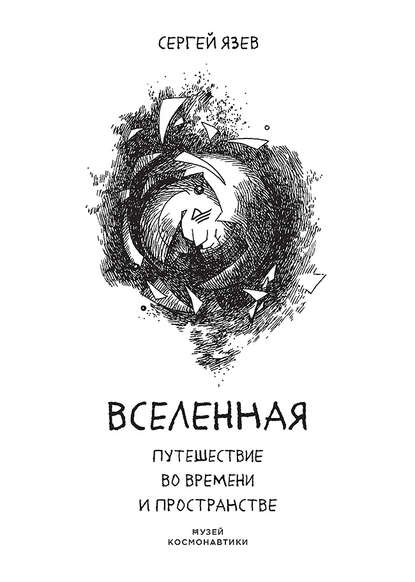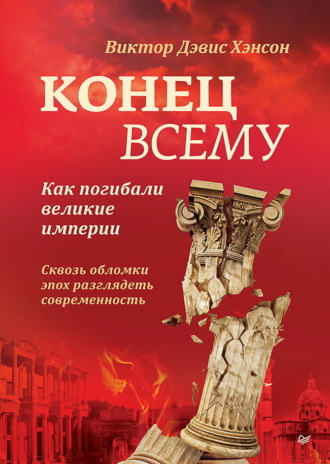
Полная версия
Конец всему. Как погибали великие империи
Римский историк Диодор, опираясь на более ранние и ныне утраченные греческие источники, подробно описал ярость сражения под стенами города и то, как быстро битва перешла в рукопашную:
Как только все они прибегли к использованию меча в ближнем бою, началась ужасная битва. Македонцы имели преимущество в численности и плотности построения фаланги. Однако фиванцы превосходили их телесной крепостью, ибо непрестанно упражнялись в гимнасиях, а духом были столь непоколебимы, что пренебрегали самой смертью. С обеих сторон многие получили раны, многие пали от вражеских ударов. Воздух наполнился стонами раненых, боевыми кличами и мольбами о помощи.
Македонцы сражались, дабы поддержать славу своего воинства. Фиванцы же бились за судьбы жен, детей и родителей, ибо понимали: в случае поражения дома их будут отданы на поругание победителям. При этом они помнили прежние победы при Левктрах и Мантинее, стяжавшие им славу по всей Элладе. Потому битва долгое время шла на равных. [7]
Фиванцы либо победят, либо умрут – все, и солдаты, и горожане, и рабы. После того как их копья были сломаны, а боевой порядок нарушен, защитники города превратились просто в толпу отдельных бойцов. Но они продолжали сражаться за свои дома и семьи, как свободные люди. Теперь их родные находились всего в нескольких сотнях ярдов позади, за городской стеной. Но даже в этом отчаянном положении фиванцы оставались уверены в своем прославленном физическом превосходстве над лучше оснащенными профессиональными македонскими воинами.
Тем временем бесконечные потоки вражеских резервов продолжали вливаться в битву. Диодор описывает отчаянные попытки фиванцев преодолеть численность и профессионализм македонцев:
Фиванцы не уступили победу, а как раз наоборот: вдохновленные волей к победе, теперь они отринули все опасности. Они были настолько воодушевлены своей храбростью, что кричали македонцам, что те сами теперь признают фиванское превосходство, раз отправляют против них новые силы. Когда враг вводит в бой свежие резервы, обычно это наводит ужас на солдат противника. И только фиванцы встречали новую опасность все смелее – даже когда против них появлялись свежие солдаты, чтобы сменить погибших или уставших. [8]
Сомнительно, чтобы хвастливые насмешки фиванцев можно было услышать сквозь грохот битвы. На самом деле мало кто из проигрывающих когда-либо рассматривал использование противником подкреплений как повод для оптимизма. В действительности судьба защитников Фив становилась все мрачнее. Отчаянные надежды на прибытие подкреплений из города или подход союзников с юга теперь рухнули. Но отступление фиванцев перенесло бы битву внутрь укреплений и повлекло бы за собой не только поражение, но и угрозу их семьям.
В итоге огромное количество фалангитов Александра сыграло свою роль: македонский натиск разрушил всякое подобие порядка среди фиванцев. Наконец-то македонцы прорвали их оборону и двинулись к городским стенам.
Поскольку внешние частоколы и рвы под Кадмеей были возведены и вырыты в спешке, их оказалось легко преодолеть. Внезапно отряд северян под командованием Пердикки, одного из виднейших македонских полководцев, обнаружил открытые и оставшиеся без охраны ворота в сам город. В ходе самых известных осад часто случаются такие промахи – следствие предательства или некомпетентности; даже в хорошо организованной обороне внезапно обнаруживаются слабые места. Судя по всему, Пердикка по собственной инициативе сразу же направил своих людей через неожиданный вход. Эта импровизация обеспечила македонцам прорыв в сами Фивы. В итоге большинство городских ворот, по-видимому, были распахнуты изнутри. Вместо долгой регулярной осады на улицах города вспыхнул внезапный бой.
Ужас быстро охватил горожан. Все уцелевшие фиванские гоплиты, еще находившиеся под стенами города, развернулись и бросились назад – на помощь своим женщинам, детям, старикам и слугам. Горстка рабов и пожилых ополченцев попыталась встать на пути македонских наемников. Но большинство жителей пытались укрыться на узких извилистых улочках, чтобы спастись от незваных гостей. В условиях осады каждый думал лишь о собственном спасении – подобно тому как во время финансовых кризисов слепая вера в стабильность лишь усугубляет потери доверчивых. Чем больше защитников покидало стены, тем сильнее остальных охватывало желание последовать их примеру.
Сыграл свою роль и конструктивный недостаток планировки Фив: старая цитадель Кадмеи, встроенная в главную стену города. Во-первых, теперь это означало, что запертый внутри города македонский гарнизон оказался прямо над своими братьями по оружию. Во-вторых, проникнув сюда, солдаты Александра не просто входили в город, но оказывались в самом высоком его месте, в последнем редуте Фив. По сравнению с более молодыми городами, такими как пелопоннесские крепости в Мантинее, Мессене и Мегаполисе (как это ни парадоксально, многие из них десятилетиями ранее были построены с помощью фиванских архитекторов), укрепления самих Фив были сильно переоценены.
По правде говоря, легендарная репутация внешней городской окружной стены происходила в первую очередь от вида огромных каменных блоков более ранних микенских укреплений. В Темные века Греции и ее архаический период считалось, что они возведены чудовищными циклопами. Жители Фив каждый день взирали на эти огромные сооружения, оставшиеся от их предков. Но они также гордились масштабным обновлением своих укреплений, проведенным в середине V века, когда был завершен второй круг стен вокруг старого города.
Тем не менее в Фивах не было ничего сопоставимого с Длинными стенами Афин или укреплениями, окружавшими мегаполисы Юга и вдохновленными именно Фивами. Но сами фиванские стены, способные выдержать осады более раннего времени, стены, эффективные в эпоху городов-государств с их прежним военным искусством, оказались слабой защитой от опытных македонских бойцов. [9]
На протяжении предыдущего столетия классическая фиванская оборонная стратегия оставалась активной – как экспедиционной, так и упреждающей. Фиванцы предпочитали использовать свою превосходную кавалерию и знаменитую пехоту для ведения боя на большом расстоянии от своего города – по возможности ближе к границам или даже на территории врага. Поля Беотии – политического и географического региона, где располагалась столица Фив, – внушали страх всем грекам как «танцевальная площадка войны». Это сравнение было заслуженным: в Беотии состоялись десятки сражений, но их местом никогда не были стены самих Фив. Увы, теперь поле боя сократилось до нескольких акров вокруг города и внутри него самого. [10]
При отступлении отряды фиванских гоплитов перемешались, а вдобавок оказались на пути своих же собственных кавалерийских подразделений: часть фиванских всадников также бросилась в город, чтобы спасти свои семьи внутри стен. Войско потеряло управление и перемешалось, что сделало даже неорганизованное хаотичное сопротивление почти невозможным. Ситуация еще более ухудшилась, когда македонский гарнизон Кадмеи внезапно вырвался из внутреннего города и атаковал. В результате обреченные защитники оказались зажаты между молотом и наковальней, не в состоянии даже восстановить боевые порядки. Диодор специально отмечает, что фиванцы частично были задавлены собственной кавалерией и поражены своим оружием:
Между тем фиванские всадники, отступая, смешались с пехотой, устремившейся к городу. В смятении многие из конных, не разбирая пути, давили и убивали собственных соратников. Беспорядочное бегство превратилось в подлинное бедствие: узкие улочки и дренажные канавы стали ловушкой, где падающие воины гибли под ударами своего же оружия. В сей роковой час македонский гарнизон, вырвавшийся из Кадмеи, обрушился на расстроенные ряды фиванцев и учинил жестокую резню, пользуясь их совершенным замешательством. [11]
Убийства не прекращались до наступления ночи. Спокойствие наступило только с фактическим уничтожением фиванской армии и прекращением всякого сопротивления со стороны мирных жителей, многие из которых были просто убиты в своих домах. Александр намеренно присоединил к своему войску жителей окрестных беотийских городов – более мелких Платей, Феспии и Орхомена, печально известных своей ненавистью к фиванцам. После поражения Фив они были щедро вознаграждены: им дали право решающего голоса в судьбе пленников, разрешили заняться присвоением и дележом фиванских сельскохозяйственных угодий и продажей обращенных в рабство фиванцев.
Большинство из этих городов-сателлитов были историческими врагами Фив. Тем не менее они входили в состав возглавляемой Фивами Беотийской конфедерации и ранее охотно присоединялись к войнам Эпаминонда, великого освободителя мессенских илотов. Теперь македонцы считали их идеальной заменой мятежным фиванцам: как только прежняя власть Фив в Беотии пала, их прежние младшие союзники сыграли роль вишистских коллаборационистов. Именно действия банд этих отступников-беотийцев послужили катализатором растущего ожесточения, порожденного высокими потерями македонцев и их яростью из-за того, что фиванцы осмелились выступить против молодого царя. В итоге охватившее победителей безумие решило судьбу оказавшихся в ловушке уцелевших жителей Фив. [12]
Почти через пятьсот лет после разрушения Фив римский историк Арриан дал яркое описание последних часов великого города. Как и более ранний Диодор, он опирался на утерянные труды греческих историков, современников событий – в первую очередь на Птолемея, македонского полководца и близкого товарища Александра. Таким образом, рассказ Арриана, судя по всему, достаточно точен, хотя и дает взгляд почти исключительно с македонской стороны.
Он подтверждает, что местные беотийцы даже в большей степени, чем македонцы, были ответственны за основную часть кровопролития, произошедшего после того, как организованное фиванское сопротивление прекратилось. Войско, осаждавшее какой-либо знаковый город, очень часто включало в качестве союзников местных и коренных жителей – вспомним балканских христиан среди захватчиков Мехмеда II, нумидийскую кавалерию, которая помогала Сципиону Эмилиану против Карфагена или тласкальцев, которые присоединились к конкистадорам Кортеса. Такой оппортунизм обычно был вызван обидами за притеснения со стороны города-гегемона. Кроме того, перебежчики лучше ориентировались в богатом столичном городе и знали, где лучше грабить в случае его падения. Осознав, что македонцы, скорее всего, преуспеют, бывшие данники Фив постарались оказаться на стороне победителей.
Судя по всему, одной из причин, по которой Александр предпочел передать грязную работу по окончательной зачистке города местным грекам-сателлитам, было стремление возложить ответственность за резню греков на других греков. Эта видимость внутригреческой гражданской войны могла бы уменьшить его собственную вину и помочь македонской пропаганде. Выходило, что именно греки, а не македонцы жестоко расправились с мятежным городом:
Тут ярость вспыхнула не столько в македонянах, сколько в фокейцах, платейцах и прочих беотийцах. Слепою жестокостью истребляли они фиванцев, и без того не оказывавших сопротивления. Врывались в дома, где несчастные искали спасения, не щадя ни молящих о пощаде в храмах, ни жен, ни детей – никого. [13]
Эта ненависть выглядела отвратительно. Но она была в некоторой степени понятна. В прошлом фиванцы разрушили соседние беотийские города Орхомен, Платеи и Феспии. Потомки тех, кто выжил в этих «мини-холокостах», теперь отплатили потомкам виновных тем же. Диодор приводит еще более ужасающую финальную сцену, чем Арриан, поскольку он фокусируется на недвусмысленной роли македонцев в резне мирных жителей:
Македонские воины, потрясая оружием, теснили смятенных горожан, предавая мечу всякого встречного без разбора. Фиванцы же, в гордом ослеплении, еще цеплялись за призрачную надежду одержать верх. Пренебрегая жизнью, они бросались на вражеские копья, встречая смерть с открытым лицом. Когда же пали городские стены, не нашлось среди них ни одного, кто бы униженно молил о пощаде – никто не простерся в прахе, не обнимал колен победителей. Но это стоическое умирание не тронуло сердец врагов, и даже долгая резня не утолила их лютой жажды возмездия. Сам город был предан полному разорению: малых детей – и отроков, и девиц – в оковах уводили в неволю, и плач их, взывающий к мертвым матерям, разносился по опустошенным улицам. [14]
Фиванцы были полностью разгромлены в течение одного дня. Их армия была уничтожена и исчезла из истории. Но что победители должны были делать с более чем тридцатью тысячами жителей, все еще остававшихся в живых, – пленниками, запертыми в своем жилище, теперь ставшем их собственной тюрьмой?
Все ли фиванцы должны были считаться коллективно виновными в восстании? С одной стороны, у фиванцев было общепризнанное правительство, и тот самый «глас народа» проголосовал на своей экклесии (политической ассамблее) за восстание. С другой стороны, существовали ли какие-либо выжившие фиванские коллаборационисты или сторонники провозглашенной Александром новой панэллинской антиперсидской коалиции, которые заслуживали бы освобождения от наказания? [15]
Теперь такие подробности были уже неактуальны – как минимум в общем уличном буйстве. Вместо этого после прекращения боевых действий последовали массовые казни большинства уцелевших взрослых мужчин – по крайней мере, большинства тех, кто не был жрецом или не мог доказать свою связь с македонцами. Это убийство сопровождалось порабощением тысяч фиванских женщин, детей и стариков. Последовало полное уничтожение физической инфраструктуры города. Другими словами, прекратили свое существование как материальные Фивы, так и сама идея проживающих там фиванцев, этнически, лингвистически и политически отличных от прочих греков.
Как древние исторические свидетельства, так и народные предания сходятся в том, что разрушение было полным, абсолютным и безжалостным. Плутарх дает дополнительную информацию о том, что битва прекратилась лишь тогда, когда последние уцелевшие бойцы фиванской армии дали финальный отчаянный бой в городе, зажатые между атакующими солдатами Александра и македонским гарнизоном, вырвавшимся из Кадмеи. Он сухо подтверждает, что попавшие в ловушку и окруженные бойцы были убиты на месте, после чего город был «захвачен, разграблен и разрушен». Хотя Плутарх писал спустя 450 лет после разрушения Фив, он жил в Херонее, всего в тридцати милях от места их расположения, то есть, вероятно, был знаком с ныне утраченными местными беотийскими преданиями, памятниками и описаниями. [16]
Точных данных о населении Фив в 335 году до н. э. у нас нет. Ученые подсчитали, что общее число жителей внутри городских стен и рядом с ними составляло от 30 до 50 тысяч человек. Это был один из крупнейших греческих городских центров, но все же его население по численности намного уступало трем крупнейшим древнегреческим городам: Афинам (около 150 тысяч), Коринфу (около 90 тысяч) и Сиракузам (около 100 тысяч). Таким образом, уничтожение Фив как политического и демографического центра представляло меньшую сложность по сравнению с более населенными греческими полисами, тем более что Фивы не имели выхода к морю и не могли ни снабжаться по воде, ни отправить выживших на кораблях в безопасное место.
Как правило, древние хроники не отделяют гибель солдат от гибели мирных жителей. Помимо сложности определения точного числа уцелевших, также почти невозможно точно подсчитать, сколько фиванцев погибло в битве как таковой. При этом у нас есть достаточно много правдоподобных и логически последовательных оценок числа убитых и проданных в рабство, чтобы оценить масштабы резни, устроенной Александром. [17]
Плутарх недвусмысленно сообщает, что имелось лишь несколько немногочисленных категорий жителей, которые избежали казни или рабства: «Выделив жрецов и всех тех, кто был в дружеских отношениях с македонянами, и тех, кто был потомками Пиндара [легендарного лирического поэта начала V века до н. э.][11], а также тех, кто голосовал против восстания, он продал всех остальных в рабство – и их было более двадцати тысяч, в то время как убитых было более шести тысяч». Он также рассказывает интересную историю об одной из немногих выживших – аристократке Тимоклее, вдове Феагена, который героически погиб во главе Священного отряда в Херонее. Когда фракийские солдаты Александра вошли в город, группа фракийцев ворвалась в дом Тимоклеи и разграбила его. Их предводитель изнасиловал хозяйку, а затем пригрозил убить ее, если она не принесет больше золота и серебра. Тимоклея указала на домашний колодец – привычное место укрытия ценной утвари во время войны. Когда командир заглянул туда, она столкнула его в яму, а затем забросала камнями пойманного в ловушку фракийца, пока он не умер.
Головорезы убитого командира связали Тимоклею и приволокли ее на суд к Александру. Судя по всему, тот был куда более впечатлен рассказом о ее мужестве и находчивости, нежели обеспокоен убийством одного из своих варварских союзников, бывших для него не более чем расходным материалом. Поэтому Александр отпустил Тимоклею и ее детей в безопасное место. Мы не имеем ни малейшего представления о том, сколько еще представителей фиванской элиты получили амнистию от непредсказуемого македонского царя. [18]
Плутарх, по-видимому, включил эту историю в свой рассказ не столько, чтобы подчеркнуть переменчивое великодушие Александра, сколько для того, чтобы проиллюстрировать уровень гражданского сопротивления победителям, а также намекнуть, что варварская резня осуществлялась наемными вспомогательными войсками, а не регулярной македонской армией, действовавшей по прямому приказу самого Александра. В этой связи мы также должны вспомнить более раннюю историю Фукидида об отвратительной резне школьников в соседнем фиванском городе Микалесс во время Пелопоннесской войны. Это древнее военное преступление также приписывалось бродячим фракийским бандам – очевидный стереотип военного варварства в греческой исторической литературе. Фукидид пишет, что в 413 году до н. э. фракийские наемники перебили всех мужчин, женщин и детей в маленьком городе Микалесс, фактически уничтожив его.[12] Таким образом, роль фракийцев в разрушении Фив дала возможность беотийцу Плутарху подчеркнуть печальную судьбу беотийских городов, подвергшихся нашествию северного, неэллинского, варварства. [19]
Если не учитывать небольшую разницу в количестве проданных в рабство, статистика боевых потерь у Плутарха демонстрирует существенное сходство с соответствующими показателями у Арриана. Оба, вероятно, опирались на те же утерянные источники. Плутарх соглашается с Аррианом, что «более 500 македонян были убиты», а также подтверждает информацию о 6 тысячах погибших фиванцев. Но, как и Диодор, Арриан сообщает бо́льшую (и более вероятную) цифру проданных в рабство – около 30 тысяч.
Диодор добавляет заключительную сводку о погибших македонцах и разграбленном фиванском имуществе: «Более 6 тысяч фиванцев погибло, более 30 тысяч было захвачено в плен, а количество разграбленного имущества было невероятным. Царь похоронил павших македонян числом более пятисот». [20]
Общее число погибших в Фивах достаточно ясно. Судя по всему, около шести тысяч фиванцев были убиты в бою, а также во время грабежей и казней, которые последовали за поражением. Это была ужасная цифра по меркам обычных войн между греческими городами-государствами, которые, как мы знаем, в среднем были меньше римских или более поздних европейских городов. Указанное число могло включать всех погибших пехотинцев и всадников, всех мирных жителей, которые сопротивлялись и были убиты на улицах, а также выживших взрослых жителей мужского пола, казненных впоследствии.
У нас есть некоторый современный событиям контекст для этой цифры: число погибших в решающем сражении при Херонее тремя годами ранее, когда Филипп II окончательно уничтожил организованное греческое сопротивление. Там общее число бойцов было намного больше – порядка 60–70 тысяч. Тем не менее потерпевшие поражение афиняне и фиванцы потеряли в общей сложности всего около 2 тысяч, македонцы – менее 150 человек. Даже в жестокой битве при Левктрах (371 г. до н. э.) проигравшие спартанцы потеряли всего тысячу убитыми. Поэтому мы можем предположить, что сама по себе цифра в 6 тысяч погибших фиванцев была чрезвычайной для классического греческого города-государства – она отражает полное уничтожение фиванской армии и последовавшую за этим резню внутри города. [21]
Арриан указывает, что Александр продал «в рабство женщин и детей, а также столько мужчин, сколько выжило». Как и Плутарх, он отмечает исключения: жизнь и свобода были сохранены «тем, кто являлся жрецами или жрицами или кто был друзьями либо гостями Филиппа или Александра, или же проксенами[13] македонян. Рассказывают, что Александр сохранил дом и потомков поэта Пиндара из уважения к его памяти». [22]
Общее число освобожденных священнослужителей, промакедонских деятелей, потомков Пиндара и различных фиванских перебежчиков не могло быть большим. Если сложить число погибших с тридцатью тысячами проданных в рабство, то можно заключить, что большинство фиванцев, остававшихся в городе к моменту прихода Александра, в течение следующих суток либо пали жертвами резни, либо были обращены в невольников. Сообщают, что работорговцы, продавшие с аукциона 30 тысяч фиванских мужчин, женщин и детей, получили прибыль около 440 талантов, или 2 640 000 драхм. Это составляет около 88 драхм за человека – необычная цифра для такой быстрой и массовой продажи.
В целом цена раба в разное время сильно различалась по всему греческому миру. Она определялась балансом спроса и предложения, в том числе во время войны, когда тысячи жителей того или иного побежденного города одновременно выставлялись на рынок победителями, которые испытывали нехватку денег. Наш основной источник информации о продаже рабов из Фив – историк Юстин, живший много позднее. Он утверждал, что одной из причин завышения цен была массовая ненависть к фиванцам со стороны других беотийцев – как будто зрелище их мучений в качестве рабов было дополнительным стимулом для покупателей. Но подобная враждебность, видимо, в самом деле помогла поднять цену на уцелевших жителей Фив.
Одна драхма в день считалась обычной дневной платой за труд в Древней Греции, поэтому цена за раба была примерно эквивалентна 88 дням труда или четверти годового заработка среднего грека. Среди проданных победителями в рабство также были и фиванские рабы: они просто сменили хозяев и теперь продавались вместе со своими прежними владельцами. [23]
В следующие годы после падения Фив новых рабов клеймили, а затем, вероятно, либо они были перепроданы по более высокой цене, либо работали до смерти, учитывая большое количество пожилых людей среди них. Их судьба в некоторой степени зависела от их умений, возраста и пола. Образованные пожилые фиванцы могли стать домашними рабами, выполняя всё – от бытовых поручений до репетиторства. Молодых женщин могли продать в качестве проституток, наложниц, домработниц, ткачих или кормилиц. Однако большинство молодых мужчин, скорее всего, оказались в более тяжелых условиях: их покупали в качестве сельскохозяйственных рабочих или перепродавали для работы на афинских серебряных рудниках.
У нас нет информации о том, сколько городских жителей, таких как Тимоклей, были освобождены Александром, бежали из города до прибытия Александра или смогли выскользнуть оттуда в краткий период между появлением Александра и разрушением города. Некоторые источники говорят о «фиванских изгнанниках», но мы не знаем, когда они бежали из города: до восстания против Александра или после него.
Но даже после победы, массовых гекатомб[14] и продажи жителей в рабство гнев Александра не угас. Он издал по всем греческим городам-государствам указ о том, что все фиванские беженцы, появившиеся в них, должны быть изгнаны и обречены либо скитаться без гражданства, либо быть переданы македонянам. Этот указ отчасти был реакцией на одну из причин восстания: как сообщалось, к нему подстрекали агитаторы из числа ранее изгнанных жителей Фив – они вернулись в город, чтобы разжечь мятеж против македонской власти.
После разрушения города афинские агитаторы быстро перешли к поддержке Александра, одновременно выступая от имени тех немногих жителей Фив, которые во время восстания оказались за пределами своего города. В итоге часть фиванцев, по-видимому, все же получила убежище в отдельных греческих полисах. Возможно, кто-то из них даже принял участие в более поздних попытках македонян построить меньшие новые Фивы на руинах старых. [24]
* * *Так какова же оказалась судьба самого города и его инфраструктуры? В конце концов, различные источники по-разному говорят о финале, о Фивах, «стертых с лица земли» (kataskapsai es edaphos) – за исключением дома поэта Пиндара, а также священных территорий и храмов. Но насколько эти яркие описания преувеличены и похожи на древние рассказы о том, как сельскохозяйственные угодья были уничтожены, вырублены или сожжены врагами, хотя на самом деле подобные нашествия редко приводили к полному опустошению?