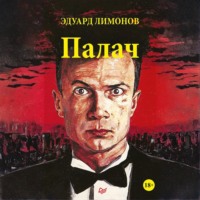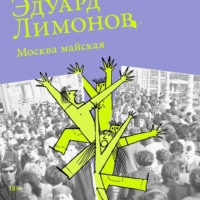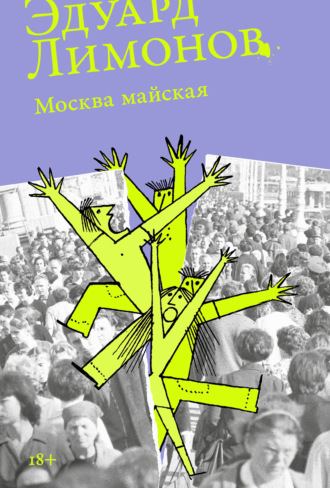
Полная версия
Москва майская
На синем московском рассвете поэту удалось высвободить руки. Развязав и ноги, он хотел врезать храпящему художнику изо всех сил, но вместо этого взял пачку гуашей художника, вылез с ними в окно и ушел. К восьми тридцати утра, прошагав через город, он позвонил в квартиру Письманов. «На, подарок тебе принес!» – сказал он, свалив картины к ногам заспанной Анны Моисеевны. После этого он упал, не раздеваясь, в еще теплую постель супругов Письманов (они только что ушли на работу) и уснул.
12
Пока Игорь Ворошилов раскалывает Стесина на три рубля, вернемся в завьюженную зиму, возвратимся в натопленную комнату Дома литераторов, где сидит наш герой среди других молодых поэтов и слушает заунывное чтение Машеньки, накрытой говенной шалью. Тарковский, спрятав лицо, что-то чертит на листке бумаги, может быть, портрет любимой женщины. А может быть, вписывает имя харьковчанина в список. Провинциалу кажется, что Арсению Тарковскому, астроному и поэту, осколку «тех» времен, стыдно за Машеньку, за самого себя, за то, что он вынужден выслушивать бездарные вирши.
Машенька закончила чтение, и встал оппонент Юрий. «Сейчас, – подумал наш герой, – он скажет ей, что стихи безнадежны, что писать ей не следует. Сейчас. Бедная Машенька, как же она перенесет удар?»
Ничего подобного ожидаемому провинциалом суровому приговору, после которого Машенька должна была, прикрываясь шалью, выбежать в метель и броситься под поезд метро на станции «Маяковская» (добравшись до нее на троллейбусе!), не раздалось из уст Юрия. Юрий указал Машеньке на неточность рифмы во второй строке третьего стихотворения, на то, что одно из стихотворений построено на слишком развернутой метафоре, метафоричность которой совершенно исчезает к концу стихотворения. Он похвалил Машеньку за старательность и констатировал, что она сумела избавиться от ошибок, замеченных семинаристами Тарковского и им – Юрием – в частности, в стихах, отданных Машенькой на их суд год назад. Зашуршали страницы – семинаристы серьезно следили за комментариями Юрия. Семинаристы тянули руки и задавали по очереди вопросы или высказывали замечания. Рита Губина спросила Машеньку что-то удивительно глупое, отчего провинциал поморщился. В Харькове Рита показалась ему умной столичной девочкой. Его никто ни о чем не спросил, хотя он твердо решил, что, если спросят, он, вольная душа, встанет и скажет: «Стихи ваши – говно. Вы никогда не будете писать лучше, Машенька, потому что у вас нет таланта!» «И еще, – думал злой провинциал, – можно добавить в ницшеанском стиле что-нибудь вроде: "Вам следует броситься под поезд на станции метро «Маяковская»!" или: "Я бы на вашем месте бросился под поезд метро!"» (Он хотел сказать «Бросился бы в Москву-реку!», но вспомнил, что она замерзла.)
Наконец Тарковский поднял голову. Взрослые люди, долгие годы исполняющие социальные функции, в конце концов достигают удивительного искусства и бесстыдства в области лжи. Лицо красивого Арсения Александровича выражало лирическое удовлетворение.
– Ну что же, – сказал он. – После столь полного анализа, которому подверг стихи Машеньки Юрий, мне остается лишь добавить несколько моих личных замечаний. – Воздев лицо к люстре, Тарковский продолжал: – Вы все, ребята, конечно, помните известное стихотворение Мандельштама, где есть строчки:
Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!Я нынче славным бесом обуян,Как будто в корень голову шампунемМне вымыл парикмахер Франсуа…– Помним! Конечно… – загалдели и закивали семинаристы.
– …Так вот. Однажды я спросил Осип Эмильича… – Тарковский остановился, подчеркивая важность момента. – Я спросил его: «Почему вы поставили имя Франсуа в этом стихотворении? Ведь так и просится на место имя Антуан, ведь Антуан есть точная рифма к слову "обуян"».
Шепот восхищения прошел по комнате. «Действительно!» – прошептала Леночка Игнатьева из глубины своих белых воротничков. «Антуан! Ан-ту-ааан!» – как молитву, повторила она.
– Я сказал: «Осип Эмильевич, вы, может быть, хотели сохранить имя Франсуа, потому что парикмахер Франсуа действительно существует?» Вы знаете, что он мне ответил?
– Ч-тт-оо? – прошептала Леночка Игнатьева.
– «Молодой человек, – сказал мне Осип Эмильевич. – Я поставил Франсуа вместо Антуан, потому что в точной рифме есть нечто вульгарное».
– О-ххх! – выдохнула Леночка Игнатьева, а с нею семинаристы.
– Вот так, Машенька, советую и вам избегать в некоторых случаях точных рифм. Позволю себе привести также изречение Шопенгауэра, Осип Эмильевич очень любил его повторять: «Красота невозможна без известного нарушения пропорций». Ну что ж… На сегодня вы свободны. – Тарковский встал. – Я, к сожалению, тороплюсь сегодня. В следующий понедельник будет читать… – Он поискал глазами. – Юрий. Юра, вы подготовили стихи?
– Да, Арсений Александрович.
– Раздайте их вашим товарищам. До свиданья.
И, сопровождаемый растроганной Леночкой, Арсений Александрович ушел, хромая.
Провинциал был разочарован.
– И это все? – спросил он Риту Губину.
– Да. А чего еще ты ожидал? Сейчас мы все пойдем в кафе, на первый этаж. Мы всегда сидим там после семинара. Ребята из всех семинаров собираются. Кафе у нас вроде клуба.
Очевидно, довольная тем, что после многих недель отсутствия опять вернулась в приятное ей место, Рита заулыбалась.
Эд хотел спросить ее: а где же ссоры, бунты, где знаменитые смогисты-скандалисты, из-за которых он простоял заснеженным Дедом Морозом у входа в Дом литераторов столько понедельников? Где сами стихи, наконец? Новые стихи где? Новая московская авангардная поэзия? Не Машенькины же это вирши?
Однако спросить Риту он постеснялся, боялся что-нибудь испортить в механизме судьбы грубыми вопросами и требованиями. «Подожду, – решил он, – может быть, следующее занятие будет интереснее». Пойти в кафе он отказался. Он не имел права тратить на развлечения деньги, предназначенные на питание семьи. На покупку котлет (60 копеек – 10 штук), носивших в народе имя «микояновских» (в честь Анастаса Микояна), как бутылки с зажигательной смесью получили стихийным образом имя Молотова.
В следующий понедельник на семинар явилось куда большее количество семинаристов. Стихи Юрия были более профессиональны, но так же безжизненны и скучны, как стихи мокроглазой Машеньки. Арсений Александрович рассказал очередную историю из жизни своего учителя Мандельштама, выслушанную присутствующими с благоговением, назначил девушку по имени Дуня поэтом грядущего понедельника и удалился, хромая больше обычного.
– У него осложнения с ногой, – грустно поведала Рита провинциалу. – Кажется, опять придется делать операцию. Ты знаешь, что у Арсения протез?
Нет, он не знал. Он только что судорожно следил за глазами Тарковского, надеясь, что, может быть, сейчас глаза остановятся на нем, в следующий понедельник он развернет свои синие тетрадки, и они все охуеют. Он им покажет, как нужно писать, жалким и слабым версификаторам! Поэт был зол на восковую мумию, на ебаного старого красивого акмеиста, выбравшего клячу Дуню. «Дуня, еб твою мать!» Да его, Эда, даже швейцар в харьковской закусочной-автомате на Сумской называл «Поэт»!
Рита пустилась в объяснения медицинских подробностей состояния ноги Тарковского, но жестокий юноша, перед выездом в Дом литераторов полдня проведший у зеркала Жанны, репетируя чтение стихов, не слушал ее, но весь внутренне кипел. Он пошел в кафе со всей бандой посредственностей, решив, что выпьет две бутылки пива по 42 копейки и завтра не станет есть. Один день без еды – ничего с ним не случится! Писать будет легче, на голодный желудок мысли яснее. В своем последовательном экстремизме провинциального Лотреамона, явившегося в Москву покорить ее, он дошел уже до того, что писал стихи по десять часов в день. Глядя из окна на заснеженные поля и лес (в стекла вдруг упирался злой зимний ветер и давил на них плечом), поэт размышлял о своей будущей славе, о Леночке Игнатьевой: как, слушая его стихи, она округлит глаза от неожиданности… И нате, слава откладывается, Тарковский опять выбрал не его!
Поэт решительно уселся в кафе за один стол с Ритой и даже постарался быть общительным – разговорился с двумя семинаристами, имена их история не сохранила.
– Мне очень не нравится практика отбора одного поэта на целое занятие, – сказал он, опорожнив бутылку пива. – Не говоря уже о том, что стихи в основном скучные, а слушать и обсуждать скучные стихи два часа – утомительно, неудобство усугубляется еще и тем, что каждый из нас имеет таким образом возможность почитать свои стихи раз в пятнадцать-двадцать недель! То есть, если исключить летние месяцы и праздники, получается реже, чем раз в полгода!
– Ты прав, – признала Рита. – Я читала свои единственный раз – больше года назад.
– Ты прав, старик! – сказал один из тех, чьи имена не сохранила история.
– Все верно, но что мы можем сделать? Такой порядок, так хочет Арсений.
– А мы что, дети в детском саду? Ведь семинар-то создан для нас, а не для Арсения Тарковского. Давайте скажем Арсению, что нам неудобен порядок проведения им семинаров. Что мы все хотим читать стихи в один вечер, пусть каждый понемногу, по нескольку стихотворений. Мне лично хочется прочесть мои и услышать мнения других поэтов о них. Я и из Харькова в Москву перебрался ради этого!
– Арсений обидится, – убежденно сказала Рита. И отвернулась поглядеть, как очень пьяный молодой человек с розовым лицом взял другого, похожего на него, молодого человека за ворот пиджака и рывком приподнял его со стула.
– Кто это? – поинтересовался провинциал.
– Куняев и Передреев, комсомольские пииты, – объяснил один из не сумевших сохранить свое имя в истории. – Два постоянно скандалящих закадычных друга. Жуткие мудаки, – прибавил он.
– На сегодня получается, что обижены мы. Так и будем безропотно терпеть, чтобы не обидеть Арсения? Да фиг с ним, с Арсением! Он издал свой первый сборник, когда ему стукнуло шестьдесят. Что ж, и нам ждать шестидесяти лет?
– Пятьдесят пять, – поправила аккуратная Рита.
Разговор этот ничем не кончился, и, возвращаясь на последнем поезде метро в Беляево, поэт сожалел, что ввязался в дискуссию со слабыми, не понимающими его страстей людьми. В Беляево, поздоровавшись с греющимися у газовой плиты на кухне Жанной и Анной, он проследовал в постель и лежа записал: «Был в кафе, истратил 84 коп. Глупо. Среди других видел пьяного Давида Самойлова. Он сидел, обнимая девушку – свою семинаристку (Самойлов руководитель другого семинара). Говорят, пить со студентами нельзя. У него могут быть неприятности. Рита – дура».
Пришла Анна, и поэту пришлось, отложив тетрадь, выключить свет и сделать вид, что он спит. Анна полежала тихонько рядом с ним в темноте, пошарила рукой по бедру поэта, переползла на поэтический член, попробовала член рукой… И так как ни член, ни сам поэт не реагировали на провокацию, разочарованно повернулась на бок и вскоре засопела. А поэт еще долго не спал, думая о своих тетрадках, о Доме литераторов, о Тарковском…
13
Через неделю, измученный ожиданием, он один поднял народ на восстание. Один. Когда после занятия Тарковский встал, назначил поэта следующего понедельника, вновь игнорируя молчаливые мольбы нашего героя, и стал выбираться из-за стола, он взорвался.
– Арсений Александрович! Что же это такое! Я, например, ни разу не читал своих стихов. Я хочу читать! Мы все хотим! – И он обернулся за поддержкой к семинаристам, которых в тот вечер собралось особенно много, пришли даже какие-то вовсе не записанные люди, даже некто Юпп – повар-поэт из Ленинграда, неизвестно какими путями пробравшийся в ЦДЛ.
– Давайте почитаем стихи! – взмолился он.
– Извините, ребята, я должен уйти. – Тарковский пошел к двери. – В любом случае наше время истекло и мы должны освободить помещение…
– Но соседняя комната открыта и свободна… – начал кто-то.
– До свиданья. – Тарковский вышел.
Гнев и возмущение заставили нашего героя вскочить на стул.
– Ребята! – закричал он. – Зачем нам Арсений! Нас никто не гонит. Время девять тридцать. Вместо того, чтобы сидеть в кафе, давайте почитаем друг другу стихи. В конце концов, ради этого мы сюда и ходим!
– Дело говорит, – поддержал его толстенький Леванский. – Давайте почитаем. Каждый по паре стихотворений. Для знакомства. Будем читать по кругу. Кто не хочет – может уйти.
Никто не ушел. Присутствующие радостно загалдели, приветствуя приход нового порядка. Наш герой послужил тем самым матросом, который, выудив червя из борща на броненосце «Потемкин», не выплеснул его равнодушно на пол, как другие матросы, но заорал: «Братцы, что ж это такое! Гнилым мясом нас кормют!» Ни тот матрос с «Потемкина», ни Эд Лимонов не были горлопанами каждого дня. На этом этапе жизни нашего героя скорее можно было бы отнести к разряду скромных и молчаливых молодых людей. Но именно в таких типах гнездится настоящий протест и медленно скопляются опасные пары, разрывавшие вдруг установленные порядки.
Когда дошла очередь до него, он трясущимися руками раскрыл вельветовую тетрадь на «Кропоткине» и прочел:
По улице идет КропоткинКропоткин шагом дробнымКропоткин в облака стреляетИз черно-дымного пистоля…После «Кропоткина» он прочел «Шарики» и остановился. Быстро, очень быстро произошло желанное действо. Он остановился, чтобы следующий за ним по кругу юноша прочел свои стихи. Но следующий почему-то молчал. И все молчали. Полный самомнения, но и робости, провинциал вдруг с ужасом подумал, что сейчас они все засвистят, захохочут, застучат ногами. Но они молчали. Кудрявенький Леванский заскрипел стулом и сказал:
– А ну-ка, прочти еще что-нибудь.
– Но ведь по два?.. – начал он.
– Читай! Пусть читает! Здорово! – закричали статисты, и он, уже не удивляясь, вспомнив, что так должно быть, именно так он все видел во снах наяву, глядя в снежное поле Беляево-Богородского, стал читать…
– Ты хотя бы понимаешь, старик, что ты гений? – говорил ему потом пьяный Васильчиков в ковбойке, сидя против него в кафе, куда все они спустились после восстания. – Софа, он не понимает… – обернулся он к подружке – темноволосой девочке в бархатном берете.
– Ты украл у меня формулу! – закричал он вдруг.
– Не украл, но нашел ее раньше тебя, – ласково поправил Леванский и подлил новому гению пива. – Я тоже, старичок, ищу в том же направлении, однако больше работаю с диалогами… С философскими диалогами…
– Прочти-ка опять «Кропоткина»! – попросил Васильчиков. – Как там у тебя: «Идет по улице… Кропоткин»?
– Здесь? – смутился автор «Кропоткина».
– Здесь. А почему нет?
Он считал, что читать стихи в кафе Центрального дома литераторов среди недоеденных бутербродов и полупьяных советских писателей пошло, но, убоявшись, что его новые друзья, если он откажется читать, сочтут его высокомерным, извлек тетрадь и залистал ее, ища «Кропоткина».
– Ты что, старичок, не знаешь своих стихов наизусть? – Пораженный Васильчиков даже отклеился от стола, на котором полулежал. – Во дает! Гений… Истинный гений…
Наш герой не понял, серьезен ли Васильчиков или вышучивает его, но на всякий случай сделал безразличное лицо.
14
Время было еще шумное. Было модно называть друг друга «старик» или, ласковее, «старичок». Чтобы прослыть знаменитостью, достаточно было говорить всем, что ты пишешь прозу. «Он пишет прозу». Иные особи московской неофициальной фауны по десять лет отделывали один и тот же рассказ в стиле журнала «Юность» и – о, лежебоки и бездельники – сумели прослыть «талантливыми» и даже «гениальными» прозаиками. Со стихами дело обстояло еще проще. Достаточно было эмоционально и неординарно читать свои «стихотворные произведения», чтобы скрыть от публики полную посредственность этих произведений. Еще тысячи восторженных студентов, инженерно-технических работников и играющих в культурные игры мелких ученых, разинув рты, выслушивали в квартирах и клубах новые стихи поэтов, но в московском воздухе зимы 1967–1968 годов уже отчетливо пахло регрессом. Наш харьковский провинциал опоздал на празднество Расина. (И может, это обстоятельство именно спасло его талант. Ибо, лишенный поклонения толпы, он имел возможность спокойно развиваться и спокойно творить. Каннибалы не съели его.)
Чтобы понять конец шестидесятых годов, нам придется отвлечься на историко-литературное исследование, спуститься в недалекое прошлое. Если у явления есть конец, то самым естественным образом у него существовало и начало. Начало самого крупного молодежного брожения в культуре – СМОГа – возможно отыскать на «психодроме». «Психодромом» называли двор гуманитарных корпусов Московского университета, выходящий одной, зарешеченной, стороной на Манежную площадь. Там-то в сентябре 1964 года они все и встретились – будущие действующие лица движения, его герои и предатели. Сдавшие и не сдавшие экзамены, принятые и непринятые, – они густо расселись на скамьях, взяли в пальцы сигареты, замерли в фотографических позах профилей и фасов. Девочки игриво обхватили стволы многочисленных деревьев. Юноши одернули пиджачки и ковбойки и провели расчески сквозь волосы. Садовые рабочие МГУ уже высадили на клумбы астры – последний отряд советских цветов, символизирующий окончание сезона. После астр клумбы оставались пустыми до тех пор, пока их не заваливал снег.
Место действия было выбрано судьбой очень удачно. Напротив, через Манежную площадь, возвышались Кремлевские башни. События всегда легче удаются, если им случается произойти в центрах городов рядом с популярными архитектурными памятниками. Седые архитектурные сооружения как бы сообщают дополнительную серьезность происходящему и хмуро провоцируют живых уподобиться героям прошлого.
У татарской Кремлевской стены, ближе к зрителю, вечно трепетал на той стороне Манежной синий лепесток газа над Могилой Неизвестного Солдата Ивана. Справа Манежную площадь (неудачно переименованную в площадь 25-летия Октября) ограничивало и ограничивает здание бывшего Манежа, в котором советский человек время от времени может увидеть творчество своих художников; слева же площадь замыкает здание гостиницы «Москва». (У входа в каковую советский человек может лицезреть человека зарубежного.) За мощно усевшимся серой жопой на ближнем левом углу площади зданием гостиницы «Националь» (ресторан того же имени в цокольном этаже может похвалиться призраками Юрия Олеши и плохого поэта Светлова, некогда заседавших в нем) начинается самая известная московская улица – Горького.
Поговаривали, что желто-казарменные корпуса гуманитарных факультетов (в виде буквы П, ногами обращенной к площади. В провал буквы как раз вписывается «психодром») были детищем самого Баженова! Увы, Баженов, очевидно, сотворил их в послеобеденные часы, здания тяжелы и брюхаты. Позднее московские советские власти (подобно их французским коллегам, рассредоточившим Сорбонну после событий 1968 года) выселили к такой-то матери гуманитарные факультеты из центра Москвы. Но в 1964-м все было на месте и ждало участников. Приходите, ребята, и начинайте.
Прежде всего они перезнакомились. Последовали пожимания рук, записывания адресов, презрительные молодые ухмылки по поводу друг друга… Скептицизм и холодность сменялись буйной дружественностью… Короче говоря, чего вы хотите от восемнадцатилетних и даже шестнадцатилетних! Оказалось, что многие пишут стихи. Оказалось, что среди них масса иногородних. Алейников из Кривого Рога провалился на экзаменах, не поступил. Кублановский из Рыбинска был зачислен на искусствоведческий… Через пару месяцев Самое Молодое Общество Гениев уже существовало. Заварилась каша и забулькала, поднимаясь и оплескивая горячими брызгами старушку-Москву. «Вы слышали? А вы знаете? СМОГ… СМОГ… СМОГ… Да, как в свое время Маяковский… На площади Маяковского…» Слава СМОГа быстро, летним лесным пожаром, пересекла границы Москвы и побежала по Союзу (Эд Лимонов знал о СМОГе в Харькове уже в начале 1965 года). Она даже выплеснулась за рубеж! Норвежские и итальянские газеты опубликовали репортажи своих корреспондентов, присутствовавших на чтениях стихов.
Почему каша заварилась в 1964-м, а не раньше или позже? Одной из причин, безусловно, было то, что как раз вступило в период половой зрелости новое послевоенное поколение. Шумные юноши и девушки с «психодрома» были зачаты в веселом победном сорок пятом году бравыми солдатами и офицерами, бряцающими медалями, и девушками в крепдешиновых платьях, при открытых окнах, под победные марши духовых оркестров с улиц, под запах сирени, и появились на свет в 1946-м. Другая, может быть, самая важная причина – исторический шок, которому подверглось именно тогда советское общество, восемь лет (с 20-го съезда по дворцовый переворот, устранивший от власти первого советского диссидента – Хрущева) прожившее в состоянии надежды. К 1965 году стало ясно, что перестройка советского общества не удалась, что общество оказалось не подготовлено даже к умеренным хрущевским реформам, что переход огромной страны от сурового сталинского средневековья в современность не может быть совершен так вот сразу и с лету.
В 1965-м страна закутывалась в одеяла, готовилась погрузиться в долгую двадцатилетнюю спячку, из которой она, кажется, выходит лишь сейчас, в момент, когда пишутся эти строки.
СМОГ был в известном смысле истерикой, которую устроила советская молодежь взрослым по поводу того, что (они чувствовали это!) в последующие двадцать лет будет скучно и тошно, ничего не будет происходить. Ибо молодежь любой страны желает, чтобы что-нибудь происходило. Положительное ли, отрицательное, но происходило. Даже война желаннее молодежи, чем покой. Вот целое поколение и грохнулось на пол, задергалось, завизжало, как ребенок, не умеющий выразить свой протест осмысленным путем, падает на пол и стучит конечностями по полу. «Не хотим! Не желаем!» Лучше всех умел визжать Губанов. Помесь Артюра Рембо с Миком Джаггером (он был именно губастенький и компактный, как Джаггер), звездою рок-н-ролла, он выплакивал, вышептывал и выкрикивал свои очень восклицательные стихи. В них увлекательно смешивались бутафория обывательского христианства, мегаломания, ликеро-водочная романтика есенинского толка и ораторские трюки, заимствованные у Маяковского. Много важнее слов была в его стихах мелодия.
Разумеется, по стандартам нормального мира сделаться поэтом в шестидесятые годы двадцатого века (не уже быть им, но стать юноше!) – выбор несколько странный. Старомодно. Однако так же, как в советских гастрономах того времени имелись в наличии лишь два-три сорта колбас, провинциально-отсталый Союз Советских мог предложить юношам лишь весьма скудный ассортимент моделей для имитации. В герметически закрытой полвека стране бытовали свои культурные моды. Подобно этому проезжий шведский литератор Лундквист с удивлением обнаружил, что в Боготе, столице Колумбии (в шестидесятые тоже годы), самой популярной литературной формой является сонет. На высоте трех тысяч метров над уровнем моря или у берегов Москвы-реки, как мы видим, возникают любопытные литературные аномалии.
В дополнение к тому, что это была местная литературная мода (так сапоги гармошкой, говорят, являются до сих пор модными в отдаленных сибирских деревнях), следует помнить, что жанр стихотворения всего более подходит к темпераменту молодых людей. Поэзия – жанр немедленного удовлетворения, как инстант-кофе. Потому СМОГ состоял почти исключительно из поэтов. Однако Губанов затмевал всех. Равняться с лобастым мальчиком-москвичом мог только криворожец Алейников, отпрыск мамы-завуча и папы – художника-самоучки. Явившийся с полей и буераков Украины, конопатый Вовка с объемистой грудной клеткой, выращенный на молоке и баклажанах, полудеревенский сын. Талант из него лез, как репа из жирной украинской земли, раздуваясь и распухая. Алейников привез в Москву запах пыльных украинских садиков, запах укропа над завучским огородом, провинцию, садоводство и огородничество и их обряды. Потому пастернаковское: «Шинкуют, и квасят, и перчат, / И гвоздики кладут в маринад…» – было близко ему, напоминало криворожский обильный дом. Если в способе стихомышления Губанова было больше всего от Маяковского (и, как утверждают зоркие недоброжелатели, от эпигона Маяковского – Андрея Вознесенского), то образность Алейникова больше всего должна образности переделкинского джентльмена-фермера.
Смогисты выбрали Пастернака в учителя. И они по праву валялись на знаменитой могиле во все годовщины смерти и в промежутках, некрофильничая. В одну из годовщин провинциал приехал в Переделкино и посетил кладбище. В различных позах на могильной плите и вокруг нее сидели и лежали с дюжину смогистов. «Эй, Лимон! Будешь читать свои стихи?!» – крикнул провинциалу узнавший его Батшев. И краснощекий провокатор неприятно ухмыльнулся. «Пшел на хуй!» – неожиданно для себя буркнул провинциал, и только благодаря вмешательству доброжелательных посредников Алейникова и его жены Наташи удалось избежать драки. Почему он так грубо и глупо ответил Батшеву? Ему захотелось осадить знаменитость. (Тогда Батшев был знаменит и овеян славою только что вернувшегося из красноярской ссылки изгнанника.) Отшивать знаменитостей интеллигентно и остроумно он еще не умел. Потому он и воспользовался старой, вывезенной им из рабочего поселка добротной прямой формулой «Пшел на хуй!».