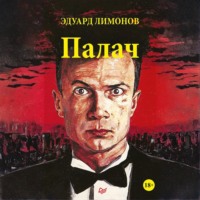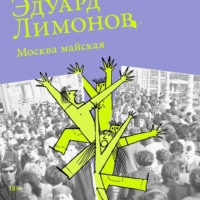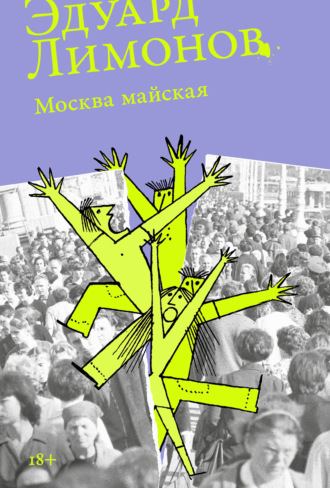
Полная версия
Москва майская
Большой том стихов Пастернака в серии «Библиотека поэта» вышел в 1965-м. С предисловием проф. Синявского. В том же году проф. Синявского арестовали, и том подскочил в цене. Синий, труднодоступный том произвел на мягкие молодые души смогистов губительное впечатление. Пастернак с помощью Синявского совратил их поколение. Стихи большинства смогистов напоминают помесь гербарного определителя растений средней полосы России с пособием по занимательной метеорологии. Обильно каплет воск со свечей, бесконечно падают башмачки или иные балетные атрибуты под громы, грозы, ливни, метели, наводнения и другие слезоточивые явления природы…
Но продолжим экскурсию во времена неудавшейся русской культурной революции. Многие десятки юношей и девушек составляли ядро СМОГа, и сотни группировались вокруг ядра. Революция была вначале лишь культурной по причине тотального табу, наложенного советской системой на движения политические. Арестом проф. Синявского и просто Даниэля в сентябре 1965-го подчеркнуто завершилась эпоха оттепели и началась эпоха зимней спячки. Если CIA (как теперь стало известно), выдавшее писателей КГБ, преследовало свои цели (желало спровоцировать скандальный процесс в СССР, дабы отвлечь интернациональное общественное мнение от эскалации войны во Вьетнаме), то у новых консерваторов – Брежнева и К°, только что пришедших к власти, отстранив Хрущева, была своя задача. Показательным процессом напугать зарвавшуюся интеллигенцию. Дабы не вели себя как при Хрущеве. Хрущевская эпоха кончилась. Ведите себя как после Хрущева. Спите. «Спать!» – был лозунг новой эпохи. Но интеллигенция и молодежь страны уже успели привыкнуть к относительно весеннему воздуху хрущевских времен. Отсюда все трагедии того времени.
Уже в 1966-м в СМОГе стал заметен раскол. Явственно от основного поэтического древа отпочковалась ветвь активистов… Буковский, Галансков, Делоне, Батшев… Оспаривая славу Губанова, эти фамилии все чаще фигурируют в московских кухонных спорах и… в западной прессе. (Равнодушный к советским стихам, Запад всегда неравнодушен к советским скандалам.) И все чаще к процитированным выше фамилиям добавляется глагол «арестован». Младшенький из смогистов, Вадим Делоне, впервые был задержан в возрасте 18 лет (в декабре 1966-го) за чтение антисоветских стихов на площади Маяковского. (СМОГ, захватив площадь, никак не хотел отдать ее опять комсомольцам.) Наказание: несколько недель в психбольнице. Уже в начале 1967-го он вновь арестован, вместе с Буковским, во время демонстрации, устроенной ими на Пушкинской площади (любовь к площадям?) в защиту арестованного ранее Галанскова. Тогда они еще защищали друг друга, а не недостижимые высокие идеалы… Темп трансформации движения из поэтического в восстание молодежи убыстряется.
В героический период (1964–1966) смогисты совершали еще «преступления», граничащие с сюрреалистическими акциями, и их, скорее, следовало бы именовать хеппенингами: босая демонстрация у посольства Западной Германии; список «литературных мертвецов», вывешенный у входа в Центральный дом литераторов (на этом месте будет пару лет спустя мерзнуть наш главный герой); нашумевший губановский лозунг «Сломаем целку соцреализму!». К 1967 году стороны, однако, ожесточились. Во второй арест, в 1967-м, потомок коменданта Бастилии Вадик Делоне отсидел в Лефортовской тюрьме 10 месяцев. В 1968-м Галансков получил уже семь лет исправительно-трудовых лагерей.
Как обычно бывает при распаде всякого движения, до сих пор находившиеся в толпе персонажи протолкались в первый ряд и, ощеривая зубы, стали рычать на лидеров. Распространялись слухи, что во время демонстрации, возглавляемой Буковским, Губанов сдрейфил, спрятался у приятеля и безопасно наблюдал из окна за разгоном демонстрации милицией. Что «гэбэшные» родители Лёньки якобы прячут его в психбольницу Кащенко всякий раз, когда ожидаются гонения. Явная враждебность слухов заставляла подозревать, что и в героический период существования СМОГа ревность и зависть уже жили среди яснолицых молодых крикунов и чревовещателей. Исследователь, желающий выяснить, что же общего было у «новых» лидеров СМОГа, выдвинувшихся на втором этапе существования движения (обозначим его условно как «истерический»), что общего было у Галанскова, Буковского, Делоне… (Батшев, вскоре после возвращения из красноярской ссылки сообразив, что по-настоящему запахло порохом, слинял из движения), неизбежно придет к единственному выводу. Вышеназванные молодые люди отличались прежде всего удивительной посредственностью литературной продукции. Стихи их скучновато основаны на расплывчатых гуманистических пылкостях и банальны. Знаменитый «Человеческий манифест» Галанскова по своей посредственной наивной глупости мог быть написан десятилетним учеником сельской школы. Исследователь-историк снимет, вздыхая, очки-велосипед и, потерев переносицу, нехотя выстучит на пишущей машине роковую фразу: «Активисты СМОГа стали "политиками" (позднее этот сорт людей станут называть "диссидентами"), потому что у них была масса энергии и отсутствовал литературный талант. Визжать по-губановски или бормотать по-алейниковски они не могли. Посему (энергия требует истощения) они лихо выскочили на арену с красными тряпками и стали дразнить Дракона – Государство».
Поэтический же СМОГ отбушевал, и слабые и медленные струи последних его потоков были закованы властями в крепкие берега семинаров при Центральном доме литераторов. Соблазненный все еще раскатывающимися по стране волнами слухов и легенд, живописно повествующих о многотысячных чтениях смогистов на площади Маяковского, в библиотеке Ленина, о неслыханной дерзости их, включивших в список литературных трупов даже модных тогда у советской интеллигенции Евтушенко и Вознесенского, и приехал наш провинциал в Москву. И именно потому упрямо выстоял во вьюге у дверей ЦДЛ столько времени, ибо знал – последние смогисты свили там гнездо. И вот он в Доме литераторов, сидит в кафе, но где же смогисты? Он задал этот вопрос Леванскому.
– Смогисты? Ну, во-первых, их разогнали за то, что они стали лезть в политику и не сумели остаться в пределах литературного движения… Губанов пьет, играет в Есенина… Володя Алейников пьет, но как будто меньше. Во всяком случае, на нем это менее заметно. Правда и то, что Алейников привез с Украины деревенское здоровье, а Губанов – городской мальчик. Алейников приходил в семинар за несколько занятий до того, как ты появился…
– А другие смогисты? Приходят ли они?
– Иногда появляются. – Леванский поморщился. – Я тебе честно признаюсь, старичок, я не очень люблю эту шайку.
Провинциал не спросил, почему Леванский не любит шайку. Ему показалось само собой разумеющимся, что толстенький и положительный Леванский, «работающий с философскими диалогами», не должен любить Лёньку Губанова, способного написать строчки: «Это жуть – дуэль, это гром – дуэль – / мне стреляться с родиной». Леванскому эти пылкости должны казаться истерикой. Однако Леванский дал провинциалу несколько уроков смогизма, его иерархии и творческих методов. Мы уже ознакомились с ними, посему упомянем лишь несказанное ранее.
– Из двух лидеров – Алейников более лиричен. Арсений (Тарковский), прочитав стихи Алейникова, сказал, что он «биологически талантлив». Есть еще Пахомов, Слава Лён, Саша Морозов, Коля Мишин, Дубовенко, Величанский… Младше всех Юра Кублановский по кличке Кубик. Всех я не знаю, старичок…
В следующий понедельник на семинар явилось с полдюжины юношей, разительно отличающихся от обычных семинаристов. Более развязные, даже, можно сказать, наглые, они были эксцентрично одеты. Один красавчик, остриженный под Иванушку-дурачка, явился в старой красноармейской шинели. Двое были бородаты. Еще один – с битлзовской челкой – в темных очках. Юноши уселись сзади и наглым смехом комментировали чтение очередной Маши. «Смогисты!» – прошептала Рита Губина. Сердце нашего героя дрогнуло. Наконец он примкнет к самой передовой молодежи своей страны. Наконец окажется в теплой и унавоженной почве.
15
– Зверев твой – мудак. Ему только консервными банками на пустырях в футбол играть. Мудак и алкаш, Игорёша…
– Не неси хуйню, Виталик, – гундосит Ворошилов. Он всегда начинает говорить в нос, когда злится. – Зверь – гениальный художник. У него охуенное, лучшее во всей Москве чувство цвета. – Сизыми ручищами Ворошилов снимает кастрюлищу с плиты и устанавливает на стол.
– Экспрессионист сраный твой Зверь. То, что он делает, было модным в начале века. И ужасающий жлоб. Второго такого тотально неприятного человека во всем Союзе не сыщешь. Троглодит.
– Ты, Лимоныч, ни хуя не знаешь Зверя, потому молчи. Зверь – тонкий человек. Это у него маскировка такая жлобская. Ему в таком камуфляже легче жить… И он никакой не экспрессионист, но лирический абстракционист, он к Джексону Поллоку ближе стоит…
– К дурдому он ближе всего стоит, Игорёша. Маскировка к нему приросла. Даже гениальный кретин – мерзок и патологичен. Я предпочитаю видеть вокруг себя красивых людей. Грязная сквернословящая уродина, одетая в пять грязных рубашек и два пиджака, бормочущая вслух привидевшиеся ему кошмары деформированного манией преследования воображения, – вот тебе твой Зверь. И вонюч до отвращения!
Нашего героя, в тот период явного западника, поклонника французского сюрреализма (следует отметить, что экс-харьковчанин, пусть и не очень уверенно, относил и свое собственное творчество к сюрреализму), раздражает русопятость многих московских художников. Даже их глупые боярские бороды его злят. Среди сотен художников он, как мы увидим, выбрал себе в друзья эстонца Соостера, хитроумного еврея Илюшу Кабакова, даже обремененный множеством негативных качеств Брусиловский импонирует ему своей европейскостью. Грубые мужланы, дремучие (и намеренно преувеличивающие свою простонародную дремучесть) алкаши-художнички ему активно неприятны. И даже не столько тем, что подражают (или развивают) вышедшим из моды течениям, но рожи (научнее будет определить рожу как «имидж») их ему не нравятся. Он преспокойно путает этику с эстетикой и не любит самого неприятного художника Москвы – Зверева – за его мужиковатость и глупую дикость, а не по причине неудовольствия его живописью… Ворошилов? В нем простонародное мастеровое пьянство красиво смягчено налетом странной средневековости в лице (надень на него берет, и будет венецианский кондотьер!) и честной незлой богемистостью. Ворошилов – увлекательный тип, может быть, таким был Модильяни или другие парижские художники славных десятых и двадцатых годов… Зверя Игорь защищает от доброты и оттого, что обожествляет искусство. И предающийся искусству, как пьянству и онанизму, Зверь залит для Игоря божественным светом…
У Стесина доброе сердце. Ворошилову таки удалось вытащить из него зеленую трешку. На трешку Игорь купил две бутылки портвейна. «Белую» Стесин не разрешил покупать. Компания расселась на кухне. Над столом горит голая сорокаваттная лампочка, по зелено-грязной масляной поверхности стены вдоль газовой плиты сползают вниз многочисленные капли – лабардан кипел долго и мощно. Капли ползут к звериному населению квартиры Кушера – к мышам.
Лабардан пусть и грубое варево, но горячее и крепкое. Заедать лабарданом жгучий портвейн – удовольствие.
– Не кормит тебя Анька, Лимоныч? Жрешь как энергично… – комментирует Стесин, наблюдая, как поэт, обжигаясь, глотает дымящееся варево. Сам Стесин лишь пару раз погрузил ложку в подставленную ему Ворошиловым кушеровскую вазу для фруктов, наполненную до краев лабарданом. Лизнул и сидит, откинувшись на стуле, разглядывает едоков лабардана. Руки сложены на груди. Ворошилов и поэт – чужаки в Москве, иностранцы как бы. Стесин живет с женой и тещей. У него всегда есть еда в доме. Кроме этого, у Стесина есть мама, папа, куча братьев и множество менее близких родственников, рассеянных по Москве.
– Денег нет ни хуя, Виталик. – Поэт поднимает глаза от тарелки.
– Я же тебе только что послал двух заказчиков на штаны!
– Послал, точно. Но я взял деньги вперед – пойдут на женитьбу.
– Сука эта твоя Женя Берман, подружка Алейникова. Могла бы своему человеку и забесплатно прописку сделать! Но я тебе пришлю еще пару ребят из филармонии, Лимоныч. А Анька что на жопе сидит, почему не спекулирует?
– Спекулирует, но потихоньку. В ГУМе опасно стало. Она уже раз попалась, боится… Потом ты же знаешь Анну Моисеевну, Виталик. Экспансивная личность! Она день прокрутится в ГУМе или ЦУМе, денег заработает, устанет, пойдет в ресторан, в тот же «Славянский базар», и проест деньги… Если не все, то большую часть.
– Пиздюлей, пиздюлей следует ввалять, Лимоныч!
– Что я могу ей сказать, я сам грешен…
16
Поэт знает свои и Анькины слабости. Деньги у них плохо держатся. Иногда им удается блистательным маневром заработать в один день столько денег, сколько рабочий на заводе за неделю не заработает. Другие бы жили себе потом тихо, аккуратно распределив денежки. Но Анна и поэт не умеют так.
В том году, на его день рождения, 22 февраля, они проснулись без копейки. Они обитали в Казарменном переулке. Бахчаняны нашли себе более удобное пристанище и передали комнату им.
– Что делать будем, Эд? – сказала Анна, сидя в халатике на краю деревянной кровати, колючие волосы заплетены в косу. – Может быть, пойдем к кому-нибудь в гости? Все же сегодня твой день рождения…
– Но к кому? – Поэт, уже вползший в многослойные джинсы, обшитые латками, сидел за некрепким столом у единственного окна, выходящего во двор, и наблюдал, как во дворе соседские дети скатываются с ледяной горы, визжа и наслаждаясь собственным страхом. Двор, так же как и деревянные дома, его окружающие, мог бы быть использован в съемках исторического фильма о Москве эпохи Бориса Годунова, хотя Казарменный переулок и находился в двух минутах ходьбы от Садового кольца, в центре Москвы. В окно поэту были видны старые бревна, срезы бревен, ледяные сталактиты, свисающие с крыш. На детях были валенки, и сквозь прорубок между крышами во двор вонзалось пронзительно-синее небо. И не зная, где ты проснулся, можно было воскликнуть, взглянув в окно: «Русь, ребята!»
Обсудив все возможные варианты, они заскучали. Исследовали карманы и обнаружили, что у них нет даже двух пятаков на метро. Выпив чаю, поэт вернулся в постель, Анна Моисеевна же, напротив, переоделась в юниформу – черное платье-мешок и, сменив поэта у стола (комната была крошечная), стала глядеть в окно. Посозерцав двор некоторое время, сказала:
– Слушай, Эд, есть идея! Пошли в ЦУМ! Валечка – продавщица из галантерейного отдела – предупреждала меня, что сегодня должны выбросить в продажу чешские варежки…
– На что ты купишь свои варежки? – резонно заметил поэт из постели.
– Да… Если бы занять денег… – Обнаружив просчет в идее, Анна погрустнела.
За дверью залаяла собака, и голос младшей девочки Ленки прикрикнул на нее: «Заткнись, Чапа, противная собака! Заткнись!»
– Попрошу у хозяйки! – Лицо Анны Моисеевны прояснилось.
– Ну да, так она тебе и дала, – хмыкнул скептик из постели. – Мы ей до сих пор десятку должны.
– Ничего подобного, Эд. Я отдала. Я у нее до вечера попрошу десятку. Если варежки поступили, мы с тобой быстро сделаем деньги. Только ты, пожалуйста, должен пойти со мной. Если они меня задержат с одной парой за спекуляцию, они ничего мне не смогут сделать, но если с несколькими, это уже серьезнее.
– Оригинально будет встретить свое двадцатипятилетие в камере предварительного заключения, – мечтательно произнес поэт и не вылез из постели. Поднял с полу чашку с чаем, отхлебнул. – Что до меня, я никуда не хочу идти. Буду лежать целый день в постели.
– Это ты сейчас так говоришь. Через пару часов есть захочешь. Вставай, встряхнись. На улице солнце. Как там у Пушкина: «Мороз и солнце, день чудесный…»
Анна Моисеевна захохотала и, подойдя к кровати, сдернула с поэта одеяло:
– Вставай, задохлик!
За дверью взвизгнула скрипка и послышался веселый голос квартирной хозяйки. По-видимому, у семьи было сегодня хорошее настроение. Хорошее настроение у Кайдашевых бывало обычно, если экс-глава семьи Николай Кайдашев, бывший директор техникума, а ныне подсобный рабочий ликеро-водочного магазина, в очередной раз, напрягши силу воли, вводил сам для себя сухой закон. Следует сказать, что сухой закон никогда не продолжался дольше трех дней и заканчивался много более могущественным пьяным взрывом, чем обыденное, не смиренное сухим законом ежедневное пьянство, но все равно семья радостно приветствовала каждый раз хотя бы благие намерения. Во время одного из подобных взрывов Кайдашев, встретив жену в коридоре, обратился к ней со странной фразой: «Скажи мне, кто я, Людмила?»
– Хочешь знать кто – посмотри на себя в зеркало. – Маленькая Людмила, носик пуговкой, взяла алкоголика за руку и подвела к старому зеркалу на стене кухни. – Видишь, ты Коля.
Кайдашев помотал головой, как лошадь, и опасливо заглянул в зеркало. Схватив себя за поредевший полуседой банан надо лбом, поднял его вверх и натянул волосы: «Я не Коля. Я – Ерш!»
Нельзя сказать, что своим пьянством Ерш терроризирует квартиру. Большую часть года он ведет себя тихо. Если уж он очень мешается под ногами и начинает «выступать», дети наваливаются на него в темном коридоре без окон и, насовав папочке тумаков, приводят его в чувство. Устоять против троих детей (старшему Алику восемнадцать, Алке – здоровой лошади, учащейся играть на балалайке, – шестнадцать, красивой грудастой Ленке – тринадцать) Ерш не может. Устав от потасовки, он уползает во всегда сумрачное свое гнездо, окно в его комнате круглые сутки занавешено, и спит. Наутро Ерш обязательно возится на кухне, варит в огромной кастрюлище из монстровидных тресковых голов и хвостов рыбный суп, совершенно неотличимый от ворошиловских лабарданов. Русские алкоголики, может быть, передают друг другу рецепты? Неизвестно. Однако и относительно юный Ворошилов, и опытный Ерш в один голос утверждают, что лабардан – самое полезное и здоровое в мире блюдо. Что самое здоровое, еще требуется доказать, но что самое варварское, в этом нет сомнения… Побитый детьми, Ерш иной раз остается лежать под дверью квартирантов и некоторое время канючит и даже принимается плакать.
– Евреи! – всхлипывает он. – Мои дети – евреи… Алка еврейка и Ленка еврейка… И Алик – еврей! Я живу с евреями!
Иной раз, если ему удается подняться, он, держась за стены, добирается до кухни, подходит к дочерям или жене, долго глядит на них грустно, потом вдруг выпаливает презрительно: «Эх ты, еврей-ка!» И уходит, держась за стены в свой ершиный сумрак. Куда он смотрел до этого и почему женился на еврейке, неясно. Людмила утверждает, что раньше Ерш был совсем другим человеком и что это алкоголизм довел его постепенно до должности подсобного рабочего винно-водочного магазина. От директора техникума в Ерше сохранилась лишь привычка всегда носить галстук, да еще, пожалуй, прическа. Редкие седые волосы Ерша нависают над пиджачным воротом этакой партийно-начальственной скобкой.
Анна пугает Эда будущим в ершовском стиле: «Вот кем ты станешь, Эд, если будешь пить со своим Ворошиловым. Вот что тебя ожидает». Несколько раз случалось уже, что пьяный поэт сталкивался в темном тупике коридора с пьяным Ершом. Как два невидящие друг друга в тумане корабля, проплывали они друг мимо друга. В самой глубине тупика черная собачонка по имени Чапа однажды вдруг родила сразу восемь щенков. Щенки писали, скулили в темноте тупика, выползали из плетеной корзинки, в которую их уложили Алла и Ленка… Однажды очень пьяный и очень сентиментальный поэт явился домой позже обычного. В нем было столько любви к миру в эту ночь, что ему понадобились все восемь Чапиных щенков для того, чтобы попытаться выразить эту любовь. Ухватив чернышей, он вошел с ними в комнату и повалился на кровать, обсыпав себя маленькими собачками. Анна, явившись с кухни, где она сидела за бутылкой портвейна с Людмилой, пришла в восторг, смешанный с завистью к поэту, налакавшемуся без нее. Следует сказать, что Анна постоянно завидовала поэту, подозревая его в куда более интересных приключениях, чем те, которые достаются на долю ей, Анне. Она позвала с кухни Людмилу, и вдвоем они посмеялись над поэтом.
17
Людмила одолжила им десять рублей.
Поэт надел пальто, сапоги и кепку, Анна – длинношерстное пальто на вате, с воротником из крашеного кролика. Пальто было сшито еще в Харькове поэтом совместно с племянницей Эстеллой Соколовской, дочерью старшей сестры Анны. Голову спекулянтка обвязала двумя платками, и супруги вышли в морозный город. Анна Моисеевна любила платки, потому что они красиво уменьшали ее физиономию и увеличивали и без того заметные глаза.
Небо и город состояли в день рождения поэта из искристых, под разными углами пересекающихся голубых, серых и снежно-белых плоскостей. Солнце голое висело над Москвой, основанной в 1147 году. Во многих местах, однако, небо было одето в верхнюю рваную телогрейку туч.
– Смотри, Анна, – сказал поэт. – Сквозь рваную зимнюю одежду неба просвечивает его голубое нижнее белье.
– Сюрреализм? – спросила Анна Моисеевна. Она во всем искала тогда сюрреализм. Бахчанян тогда уже сотрудничал с «Литературной газетой», и познакомился уже там с Женей Головиным, и уже давал им читать две песни «Мальдорора», неряшливо записанные переводчиком Головиным на листках из ученической тетради. Впрочем, на сюрреализме они были помешаны еще в Харькове. Знаменитая «встреча швейной машинки и зонтика на столе для анатомирования трупов» была им давно известна. Однако в Харькове они в основном знали сюрреализм по репродукциям художников-сюрреалистов. Знали более всех, конечно, Магритта и Дали. Чуть меньше – Кирико и Дельво.
В 1966 году в культурной жизни Харькова произошло грандиознейшее событие. Появился в продаже ограниченным тиражом чешский «Словарь современного изобразительного искусства», снабженный пятью сотнями цветных репродукций. Конечно же, Анна и Эд стали обладателями этого, абсолютно нужного им словаря. Пришлось ломать голову над чешскими словами. Большей частью они были общеславянскими, понятными словами, но порой чехи загибали вдруг такое слово, что трещала голова и ни один знакомый не мог разгадать, что за ним скрывается. Приходилось обращаться к специалистам по немецкому языку. Зато в словаре этом были художники даже третьей и пятой величины. Представители всех современных направлений в живописи, начиная с символизма и импрессионизма и кончая абстракционистами и даже начатками поп-арта, значились там. Однажды честолюбивый поэт в припадке гордости начертал красными чернилами на суперобложке словаря следующую фразу, характерную для его умонастроения того времени: «Эдуард Лимонов должен жить так, чтобы попасть в такой словарь!» Толчком же к появлению этого гордого девиза послужила обнаруженная в словаре статья о (вообще-то не принадлежащему словарю изобразительного искусства) поэте Аполлинере. Он рылся в словаре и через несколько лет после приобретения. Его поражали неожиданные биографии некоторых художников. «Родился в…» – следовало название мелкого городка в России, Польше или на Украине – «…умер в Париже». «Умер в Париже» звучало захватывающе авантюрно… «Вот бы и мне!» – смутно грезил наш герой и прикидывал, как бы звучала биографическая справка о нем в чешском словаре: «Родился в г. Дзержинске, 1943, умер в Париже». Чешский «Словарь современного искусства» переехал с ними в Москву. Так же как и маленькая зеленая книжка «Стихи и поэмы» Гийома Аполлинера, изданная издательством Академии наук…
Из таких вот и подобных им публикаций черпали примеры и вдохновение не только наш поэт, но и целое поколение русских юношей, искавших в те годы своих путей в искусстве. Часто культурная информация достигала нового поколения еще более странными путями, через более экстравагантные издания, чем чешский словарь. Вагрич Бахчанян, скажем, извлекал информацию из польских журналов «Шпильки» и «Польский экран». У Баха была целая коллекция вырезок рисунков художника Топора, и не раз, склоняясь над принесенными Бахом новыми ужасами, они восхищались, смеялись и качали головами. «Здорово!» Еж за колючей проволокой был самым безобидным рисунком. Автомобиль с обглоданным задом, обнажающий скелет, как у животного, вызывал одобрительное «Ни хуя себе!». Средневековый муж, вытягивающий шею своей жене, глядя на модель – лебедя в пруду, также заслужил у них «Ни хуя себе!». Человечек, пытающийся достичь тарелки, к тарелке была привязана веревка, которая, пройдя через систему блоков, завязана была за ногу человечка, вызвала у компании высший восторг: «Еб твою мать. Гениально!»
Сюрреальное небо затянуло, когда они подошли к ЦУМу, самыми обыкновенными несюрреальными московскими тучами. Пошел снег. Варежки – продавщица Валечка дала достоверные сведения – действительно выбросили. И не только варежки, но и вязаные перчатки. К сожалению, сама Валечка отсутствовала, и им пришлось встать в очередь. По мнению Анны, это была маленькая очередь, по мнению ненавидящего очереди Эда, очередь была невыносимо длинной. Однако через полчаса они шагали сквозь уже серьезно взявшуюся за город пургу к другому большому московскому универмагу, к ГУМу. В карманах у них лежали две пары варежек и две пары перчаток. На большее количество у них не хватило денег, да и в любом случае ЦУМ в целях предотвращения спекуляции позволял продавать лишь две пары в одни руки.