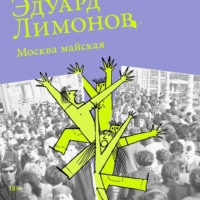Полная версия
Москва майская
Ирка Врубель-Голубкина – молодая девушка с выпуклыми глазами и мокрым ртом – вошла и тихо стала у двери, так как поместиться в комнате четверым было невозможно.
Эд прочитал множество стихотворений. И почти каждое Мишка сопровождал причмокиванием, как бы разжевывая и смакуя, цокал языком, поглядывал то на жену, то на Бахчаняна, словно это он сам написал читаемые Эдом стихи. «Вот, – время от времени обращался он к присутствующим, – просто и ярко сделано. Невымученно. Не то что наши дрочилы…» Эд запомнил кладбищенскую фамилию Гробмана и зачислил его в разряд друзей. Однако стихи самого Гробмана, прочитанные тогда же, Эду не понравились. Показались слишком сухими и лакированными. Выдроченными. Сидя в Беляево, он думал о Гробмане, но ехать к нему опять почему-то медлил.
В другой раз Бахчанян сводил его в редакцию самого левого в Москве журнала «Знание – сила». Пожав руку десятку художников и запомнив лишь одного – главного художника газеты Соболева по причине хромоты, трубки в зубах и потому, что вел он себя грубо и насмешливо. Эд понял, что журнал этот ему не нужен, а он не нужен журналу. «Знание – сила» приняло несколько рисунков Баха, Бах чувствовал себя в журнале, как рыба в воде. Сообщник других художников, он говорил с ними на одном языке. Профессиональном. «А где мои собратья по профессии?» – спросил себя Эд. Следовало их найти.
7
Друг детства Анны Моисеевны художник Брусиловский сдержал данное им когда-то в Харькове обещание – пригласил их к себе. Эд выгладил брюки, Анна выстирала кружевной воротник платья. Они долго искали нужную им улицу и, обнаружив дом, опасливо спустились мимо мусорных баков по старой вонючей лестнице один марш вниз. Знаменитый художник живет в подвале?.. Зато, когда отворилась обитая новым сверкающим кожзаменителем дверь… О, восторг! Таинственная, в полумраке им открылась мастерская художника. В те годы, когда отдельная квартира была редкостью и роскошью, мастерская в полуподвале (тахта покрыта лисьими (или одной?) шкурами, свечи, запах красок, зеркала?), первая московская мастерская показалась ему храмом искусства и… порока. Да-да, ибо в гостях у мясистого, обакенбарженного, загорелого Брусиловского находилось несколько красивых девушек.
– Модель Галя Миловская. Русская Твигги! – представил Толя тонкую блондинку в коротенькой юбочке.
– Ну Брусиловский! Тооооля! – взныла блондинка и сделалась злой.
– Она не любит, когда ее так называют. Стесняется, – конфиденциально прогнусавил Брусиловский, когда они оказались на безопасном расстоянии от блондинки. – О Гале только что сделал огромный репортаж журнал «Америка». Галя на Красной площади во всех видах. Блестящий успех! Всемирная известность! Чуть позже приедут мои друзья – поэты Холин и Сапгир. Ты почитаешь стихи?
Эд издалека сравнил тонкую Галю с подругой жизни Анной Моисеевной и вздохнул. Пришлось признать, что Анна явно проигрывала, не спасала даже ее агрессивная экстравагантность. В два раза шире, низкозадая, седая… Нелепый черный балахон работы Эда. Спальный мешок, а не платье… Впервые Эд застеснялся своей подруги, и неприглашенная явилась мысль о том… Вернее, это была не мысль, но как бы предчувствие. Ничто не вечно, однажды ему придется покинуть Анну и, может быть, ради такой вот девочки. Ведь если он явился завоевывать Москву как бальзаковский Растиньяк (роман «Отец Горио» он прочел в адаптированном варианте по-французски еще в школе. Правда, на чтение ушел целый учебный год), то следует ее завоевывать всю. То есть не только научиться писать стихи лучше, чем пишут москвичи, но и… присвоить их лучших девочек. Однако, так как провинциал не был еще тогда бесстыдным, он немедленно же застеснялся своих отдельных от Анны мыслей. «Так нельзя, – сказал он себе. – Анна – моя подруга, и думать о будущем без нее – плохо». И, приблизившись к Анне, сел рядом с нею на лисью шкуру.
Жена Брусиловского – тоже Галя, – маленькая девушка с воспаленными несколькими прыщами щеками, беседовала с Анной о московских трудностях с жилплощадью. Оказалось, что помимо мастерской у Брусиловских есть комната в коммунальной квартире недалеко от метро Кировская.
– Крошечная – 16 метров. Нас трое – Толя, я и Максим. Максику только два года. Жить с ним в полуподвале я не могу – это плохо для здоровья мальчика. Да и Толя не хочет. Чтобы творить, он должен быть один.
– Вы еще и жалуетесь?! Пожили бы вы в Беляево, у черта на рогах, на окраине, в десяти метрах, как мы с Эдкой! – воскликнула Анна Моисеевна возмущенно. – Кровать и стол только и умещаются. Задами тремся друг о друга…
– Анна! – Поэт застеснялся неточной и намеренно драматизированной информации об условиях их жизни. Он не отказался бы ни от какого материального блага, в том числе и от более обширной пещеры в центре Москвы, но ему казалось естественным жить «трясь задами». Следуя классификации Хлебникова, делившего все человечество на «изобретателей» и «приобретателей», он гордо относил себя к изобретателям. Да, Жанна запирала в свое отсутствие большую комнату, но они прекрасно пользовались кухней, ванной и коридором. Да и комната, в которой они терлись задами, была больше десяти метров. По стандартам изобретателей, шикарная жизнь.
– Анна!
– Что «Анна»? – невинно всплеснула очами Анна Моисеевна. – Я говорю это, чтобы Галя не переоценивала свое положение в худшую сторону.
Налицо была явная попытка быть любезной. Впервые встреченным людям, не друзьям, в точно такой же ситуации Анна, несомненно, закричала бы: «Зажрались и не понимаете! Эдка – гений!»
– Я понимаю, что вам кажутся неискренними мои жалобы, – спокойно начала Галя. – Мол, с мастерской в сотню метров она еще и сетует на жилищные условия. Но Толя живет в Москве уже десять лет. Он известный художник. Он имеет право на чуть лучшую жизнь. До того, как мы поженились, он хлебнул свою долю неустроенной жизни: жил и у приятелей, и в общежитии…
Гале пришлось встать, прервав апологию мужа, и, оправив брюки, отправиться открывать двери. В дверь звонили, а Брусиловский, отставив крепкий зад, именно в этот момент зажигал спиртовку под фондю. Запахло жженым спиртом, хозяин сообщил гостям, что спирт в таблетках – отечественного производства, в то время как сам аппаратик – швейцарского.
Напитки, выставленные на низкий стол, судя по этикеткам, были иностранные. Веселый английский гвардеец-алкоголик в красном мундире маршировал по фронтальной стороне параллелепипедной бутыли джина. Белая и черная собачонки виляли хвостами на бутылке шотландского виски. Большие бутыли были окружены десятком карликовых. Поэт прикинул, что в каждой карликовой по двести или чуть меньше граммов бесцветного напитка, очевидно, водки или джина. Виски и джин ему приходилось пить в Харькове, карликовые бутылочки он видел впервые. «Здорово придумано, – шепнул он подруге жизни, – хорошо против алкоголизма. Купил такую, вылил в стакан, поддал, и достаточно. А с нашей бутылкой водки, если уж открыл, – всю бутылку выпивать нужно».
Оказалось, что в карликовых бутылочках не водка, но особая сладко-горьковатая вода, которую следует смешивать с джином. «Тоник». Прогрессист, он немедленно приобщился к новому для него благу иностранной цивилизации. Когда маленькая Галя спросила его, какой «дринк» он предпочитает, поэт сказал, что предпочитает «джин, с этим, как его?..».
Вскоре после приобщения к новому иностранному напитку тонику поэт приобщился к первым в его жизни живым иностранцам. В мастерскую ввалилась, стряхивая снег, пара в одеждах, которые поначалу показались поэту карнавальными. Кожи зверей, множество меховых манжет, хлястиков и воротничков, пуговиц, несколько шарфов, спускающихся на грудь или заброшенных на спину. Женщина была в блестящей кожи сапогах, уходящих выше колен, под полушубок. В руках у мужчины было несколько пластиковых ярких мешков, и в них позванивали весело бутылки. Одежды, смеха, звона бутылок и топота было так много, что и десяток советских граждан не могли бы сравниться с этой парой. «Пегги! Вальтер!» – закричал Брусиловский, хотя в криках, показалось провинциалу, не было никакой необходимости. Очевидно, хозяин хотел быть вежливым и потому приветливо ответил шумом и энтузиазмом на шум и энтузиазм. Он три раза сочно поцеловал Пегги, назвал ее «дарлинг» и, сцепившись с Вальтером и его бутылками в медвежье объятье, затоптался у двери. В неприкрытую дверь задуло сырым ветром и мочой.
Провинциал был самым младшим в компании, и его представили иностранцам последним. Он не обиделся, он понимал, что право быть представленному первым следует заслужить.
Освободившись от верхней одежды, Пегги оказалась очень худой. В ту эпоху все женщины или были худые, или старались похудеть. Разумеется, исключая Анну. Увидеть, где заканчиваются блестящие сапоги иностранки, поэту не удалось. Они заканчивались под кожаной юбкой или составляли с ней одно целое?
– Я хочу достать себе такие, Эд! – Анна глядела на сапоги не отрываясь, восхищенная сапогами. – Купи мне такие, Эд?
– А что ты мне купишь? – осведомился он грубо. – И как ты их натянешь?
– А, что с тебя взять! – Анна Моисеевна тяжело повернулась, увлекая за собой лисью шкуру и Эда. – Безденежный… Поеду в Киев к сестре и выйду там замуж.
– Давай, давай… – пробурчал поэт. Иногда Анна Моисеевна все же шокировала его. Как можно серьезно хотеть такие вот сапоги при небольшом росте и толстенных ляжках? Каждому свое, нужно бы понимать. Дама с окружностью бедер 128 сантиметров не может одеваться, как эта… Твигги. Брусиловский уже сообщил ему, что Твигги – самая модная английская девушка-манекенщица – худа как скелет и весит при росте 176 сантиметров всего 48 килограммов. Или 45?
Первая иностранная женщина в его жизни (он наблюдал группы интуристов, но издалека, как птиц, пролетающих в небе) оказалась американкой и работала в американском посольстве. Кем? Он не понял, но переспросить постеснялся. В первые иностранные мужчины судьба подсунула ему немца. И он работал в западногерманском посольстве. Фамилии свои иностранцы не сообщили. Галя маленькая сказала, что Вальтер женат, а с Пегги у него роман.
Анна Моисеевна сняла, расстегнув молнии, уродливые сапоги на меху, и они валялись у тахты, а Анна Моисеевна полулежала на шкуре, побалтывая кокетливо ногами. Один чулок был порван, и из дыры вывалился средний палец. Ступни и пальцы у сожительницы поэта были маленькие и аккуратные, однако поэт вовсе не был уверен, что именно так следует себя вести, находясь в присутствии иностранных граждан. Проходя, он толкнул сожительницу коленом:
– Анна, надень сапоги!
– Что?
– То, что у тебя рваные чулки.
– Что естественно, то не позорно, Эд!
У Анны Моисеевны на все случаи жизни была теперь готовая мудрость.
Поэты явились около одиннадцати. Не одни, но сопровождаемые тремя девушками и бородачом. Длинноволосый, усатый человек в дубленом иностранном полушубке, брюки гармошкой спускались на сапоги, был назван Брусиловским Генрюша. Худой, остриженный дней десять назад под машинку, статный высокий тип в сером плаще, шарф под самый нос, ярко-синие джинсы, назван был по фамилии – Холин.
– Ну что же вы друзья, мы вас ждем! – Брусиловский, энергично набросившись на гостей, вынимал их из одежд со страстью необыкновенной. – Исстрадались все… Стихов! Скорее стихов!
– Пардон… засиделись в «Пекине». Вот познакомились с прекрасными китаянками. – Генрюша насмешливо подтолкнул к Брусиловскому девушек, нисколько не напоминавших китаянок. – И держи бутылку, Анатоль: «Маоцзэдуновка». Китайская водка. Крепка, стерва!
Брусиловский, к большому сожалению нашего героя, никогда не пробовавшего китайской водки, унес цилиндрическую бутыль в глубину подсобных помещений. Харьковчанин завистливо подумал, что земляку принесли куда большее количество бутылей, чем он выставил. И каких бутылей!
Длинноволосый прошел к гостям чуть пошатываясь. Пожимая руку провинциалу, он посмотрел, однако, не на него, но на большую Галю – Твигги. Он расцеловался и с Пегги, и с Вальтером.
– Ну как, зажило копытце? – спросил он американку и поглядел на ее зачехленные доверху ноги. – Боишься теперь русских поэтов, сапожки надела, пятки бережешь… – Длинноволосый расхохотался.
– Тебья нет, Генрьюша, не баюс, но Лионька, Лионька, какой ужасьний Лионька!
– Летом Губаныч укусил Пегушу за пятку, – весело объяснил непосвященным Брусиловский. – Пегуша сидела там, где сейчас Анна Моисеевна, Губаныч лежал у нее в ногах. Лежал, лежал, гладил ноги, потом вдруг укусил Пегушу. Пришлось везти ее в Склифосовского, делать укол против бешенства.
Эд понял, что Губаныч и Лионька – одно и то же лицо и не кто иной, как лидер СМОГа Леонид Губанов. Судя по доброжелательным улыбкам, присутствующим скорее нравилась эта история. И сама Пегги произносила «ужасьний Лионька» с улыбкой.
«Вот это нравы!» – подумал провинциал с уважением. Сюрреалистически-шизоидное поведение всегда вызывало в нем восхищение. Сам он не был, впрочем, уверен, что мог бы укусить за пятку американку.
Лишь к полуночи поэты почувствовали себя готовыми к чтению стихов. Жестокие москвичи не сделали провинциалу поблажки ни на молодость, ни на то, что он прибыл из провинции. Читали в порядке занимаемых мест. Первым Генрюша. Будучи до этого занят нашептыванием нежностей или грязностей «китаянке» с личиком потаскушки с вокзала, Генрюша, однако, очень умело и споро переключил себя из секса в искусство и хрипловатым баритоном, не вставая с пола, стал читать:
Идут коллективы, активы и роты,Большие задачи несут идиоты.Машины и дачи несут идиоты.Одни завернувшись по-римски в газеты,Другие попроще – немыты, раздеты…Идут идиоты, идут идиоты,Несут среди общего круговоротаКакого-то карлика и идиота.Идут идиоты, идут идиоты,Идиоты честны как лопаты,Идиоты хорошие в общем ребята,Да только идти среди них жутковато…Ему пришлось читать после Генрюши, что его не обрадовало, так как провинциал признал в нем сильного и умелого противника. Эд извинился и попросил хозяйку найти его пальто.
– Вы собираетесь нас оставить? – спросил с пола сидевший в позе лотоса Холин.
– У меня в пальто тетрадка, – пояснил харьковчанин стеснительно. – Я не помню своих стихов наизусть.
Он прочел им свою поэтическую программу: «Кропоткина» и стихотворение «Натюрморт». В стихотворении перечислялись предметы, по тем или иным причинам запомнившиеся ему из смутного полусознательного детства. К примеру, строчка «А это топор – он оттяпает палец-мизинец» имела в виду конкретный топор, которым безумный сосед по двенадцатиквартирному дому на харьковской окраине Лёнька Шепельский отрубил себе палец. И именно мизинец.
…Вот килька – ее выбросить в окноВот лимон – его покатать… —закончил поэт. Присутствующие, за исключением Брусиловского, сопровождающего чтение стихов друзей обязательным закрыванием глаз и поматыванием головы (усатые уста его в этот момент сомнамбулически улыбались), отнеслись к стихам провинциала без особого восторга. Ему никто не аплодировал. Генрюше, впрочем, тоже не аплодировали, однако слушатели радостно шумели после прочтения «Парада идиотов». После прочтения «Натюрморта» они зашевелились, разминаясь. Лишь Холин сказал вдруг: «Если вам действительно хочется покатать лимон, это очень хорошо». Но неизвестно было, что он поощрил: стихотворение или философское занятие катания лимона. Провинциал решил, что он их не убедил.
«Дурак, нужно было выбрать другие стихи, нужно было прочесть "Книжищи"», – изругал он себя.
– Игорь, прочти нам «Холина»? – Брусиловский, восседавший на хозяйском деревянном кресле, издал из кресла множество энтузиастских скрипов и кожаных взвизгов. Поэт лишь чуть выпрямился, потянулся вверх из позы лотоса (и как он не устал в ней сидеть, подумал Эд) и зачел сухо и спокойно:
Как, вы не знаете Холина?И не советую знатьЭто такая сукаЭто такая блядь…Глядит как сычГоворит дичьВместо ногХодулиВ задницу ему воткнулиСам не куетНе коситЖрать за троих проситКак только земляЭтого гада носит.Профессиональным ухом харьковчанин пробился сквозь кажущуюся пародийность и прямолинейность стихотворения и его стиля. Он испытал вдруг четко выраженную зависть, что не он написал эти строки. Такого в Харькове не писали. Не умели, не могли, находились на другом уровне сознания. «Здорово», – подумал он и решил, что ему следует изучить Холина. И взять из его стиля лучшее себе.
Так как стрелки часиков на руке Анны Моисеевны опасно пересекли 12:30, поэт и муза спешно натянули пальто, попрощались и убежали к метро. В последнем поезде по пути в Беляево они обсудили вечер и согласились, что таких поэтов в Харькове не было.
Увы, показав им сладкую жизнь один раз, Брусиловский не спешил приглашать их опять.
«Москва – город жестокий. Выжить в Москве, стать известным в Москве… о, для этого нужно быть очень сильным человеком…» – Поэт вспоминал слова Брусиловского, сказанные им во время далекого теперь уже визита в Харьков, и глядел из окна на еловый лес. Очевидным сделалось и то, что в Москве каждый выживает сам, отдельно. Что рассчитывать можно только на себя.
8
Уже через месяц Беляево-Богородское завалило снегом. Высокие американские сапоги поэта на несносимых пластиковых подошвах, купленные у харьковского фарцовщика Сэма за 70 рублей, пригодились. К выстроенным из белесого кирпича снегоподобным блокам зданий нового квартала, призраками высящимся в метелях, приходилось пробираться от автобусной остановки по колено в снегу… Правда и то, что поэт редко отлучался из пределов счастливо найденной жилплощади. (В то время как подруга его метеором носилась по Москве, посещая немногочисленных знакомых, быстро приобретая новых, вызывая везде шум и беспокойство.) Знакомые, приобретенные Анной, и бахчаняновские новые друзья, увы, не стали друзьями Эда. И он сам стал искать друзей, людей, с которыми можно прожить жизнь. (Разумеется, в ту зиму он не подозревал, что Москва окажется не конечной станцией, на которой он сошел с черным чемоданом, а только большой пересадочной.)
Искание друзей сводилось в основном к одной и той же восточной церемонии. Аккуратно раз в неделю он звонил в многонаселенную квартиру где-то в глубине старых кварталов Москвы, и на сердитое или равнодушное «Алле!» множественных голосов в трубке всегда отвечал одним и тем же, приторно вежливым предложением, противным ему самому: «Будьте добры, пожалуйста, Риту Губину». И голоса обычно швыряли: «Нет ее!»
– А когда она будет, скажите, пожалуйста. – Второе предложение было таким же сладким и противно церемониальным, как и первое.
– Откуда я знаю? – отвечали все голоса.
– А она еще живет в вашей квартире? Она не переехала? – стал спрашивать поэт после пятого звонка (если успевал до того, как в глубине Москвы зло водрузят трубку на рычаг).
– Живет как будто… – отвечали все голоса, ни разу не позволившие разговору продлиться дальше этого «Живет как будто…».
На следующий день после такого звонка, в понедельник, около шести вечера поэт выходил из дому куда более тщательно одетый, чем для обычной прогулки (почищенный и отглаженный). И сложенные по длине вдвое, в обоих внутренних карманах пальто лежали вельветовые тетради. Автобусом, затем при помощи метро до площади Маяковского и наконец троллейбусом до площади Восстания поэт добирался на улицу Герцена и становился мерзлой статуей у двери в Центральный дом литераторов. Там по понедельникам происходили семинары Секции молодых поэтов, на каковые провинциал и желал попасть. Это стало в ту зиму целью жизни поэта. Дело в том, что, по слухам, упорно циркулировавшим в провинциальном Харькове, ежепонедельничные семинары в Центральном доме литераторов собирали всю самую талантливую пишущую молодежь Москвы. В том числе и легендарных смогистов! А Рита Губина – бывшая харьковчанка и приятельница «метафизического» (как его уважительно называли земляки) харьковского поэта Олега Спинера – была старостой одного из семинаров, а именно того, который «вел» Арсений Александрович Тарковский, любовник в прошлом Цветаевой (или Ахматовой, молва имела варианты) и ученик Мандельштама! Упрямый провинциал знал только телефон Риты (он видел девушку на вечере поэзии в Харькове и говорил с ней несколько минут). «Найди там Ритку, она тебя со всеми познакомит», – сказал ему Спинер, скептически относящийся к затее юного коллеги ехать в Москву и жить там без прописки. И дал ему телефон.
«Легко сказать – найди», – уныло думал поэт, стоя у двери в недосягаемый ему мир, занесенный снегом, как среднего роста ель в лесу. Дело в том, что неимоверно строгий отряд пограничников ограждал элитарный мир советских литераторов от внешнего советского мира. Юных поэтов пускали в литературный «клуб-привэ» только по особым спискам, составляемым на понедельник вперед. Пропустив человека внутрь, небольшого роста дотошный Церберман, известный на всю страну своим отвратительным темпераментом, вычеркивал фамилию из списка. Даже заслуженные старцы, члены Союза, обязаны были предъявлять членский билет, и безумец иной раз позволял себе тщательно вглядываться попеременно в фотографию и в оригинал, очевидно, упиваясь своей властью. (Десять лет спустя поэту привелось наблюдать подобную же сцену у входа в диско «Студия 54» в Нью-Йорке. Маленький хозяин «54» Стив Рубелл, бруклинский еврейский мальчик, с упоением отказывал в доступе в свое диско большим англо-саксонским миллионерам.)
Провинциал являлся за полчаса, а порой и за час до начала семинаров и вставал на свой пост молчаливый, серьезный и отстраненный, вглядываясь в лица, – он ждал Риту Губину. И Риты Губиной не было обнаружено в семь понедельников!
«А может быть, я не помню, как она выглядит?» – засомневался после седьмого понедельника упрямец. Однако, закрыв глаза, без особого труда вспомнил остроносую девочку с русыми, остриженными под Надежду Константиновну Крупскую, волосами.
А к подъезду все время подъезжали частные автомобили и такси. Хорошо одетые таинственные столичные литераторы входили, встряхивая шубами и дубленками, в вестибюль дома-дворца. Седовласые, большелицые, сопровождаемые красавицами, они пахли духами и одеколонами несоветского производства и, освобождаясь от шуб и дубленок, оказывались или в крупной вязки заграничных свитерах, модных в те годы, или в столь же модных замшевых куртках. В руках их тотчас же появлялись модные трубки с ароматным табаком, и Цербер, грозный и злой для мальчишек, не включенных в списки, ласково ворковал им что-то на ухо. Наш герой видел эти сценки сквозь замороженные стекла огромных, о двух половинах, дверей… Или (о, удача!) если ему удавалось проникнуть в теплый предбанник, в небольшое помещение между первыми дверьми и следующими, еще более великолепными, оправленными обильно в бронзу, ведущими, собственно, в вестибюль. У них-то и стоял главный Церберман и младшие церберы.
Смиряя свою гордость, он несколько раз просился внутрь. Над ним смеялись. Однажды он сказал, что приехал из провинции на несколько дней, но Церберман резонно заметил, что видит его замерзшую физиономию уже месяц, и наш герой с позором был изгнан из предбанника. Заметаемый снегом, он грустно ушел по улице Герцена, вышел на Садовое кольцо и сел в троллейбус. Решив больше не возвращаться на улицу Герцена. Но в следующий понедельник не усидел дома, опять загрузил карманы синими тетрадями и, приехав к Дому литераторов, стал на свой пост.
К чести удивительного упрямца, он все же добился своего. Однажды, когда он устало вглядывался в лица ввалившейся в роскошные двери юной компании, он услышал, как лохматый толстенький типчик обратился к девушке в ушанке. Она стояла спиной к нашему герою и, смеясь, согнувшись, стащив варежку с руки, искала что-то в разбухшей папке.
– Ритка! – сказал парень. – Шевелись, опаздываем!
– Извините, – решился коснуться плеча девушки в ушанке остолбеневший упрямец. – Вы не Рита Губина будете?
– Да, Рита. И Губина. – Смеющаяся девушка обернулась. – А вы – Дед Мороз?
– Я из Харькова, – сказал поэт. – Мы с вами знакомы. Нас Алик Спинер в Харькове познакомил…
– Я помню вас, – сказала девушка, вглядевшись в него. – Вы пишете очень смешные стихи, да? А что вы здесь делаете?
– Ритка! Пошли! – выкрикнул из предбанника торопливый лохматый молодой человек.
– Я вас жду, – поспешил объяснить провинциал. – Я вас уже давно жду. Семь недель. Я вам звонил все время, но вас никогда нет дома… Я на семинар хочу.
Поэт снял кепку и ударил кепкой о колено, чтобы стряхнуть снег.
– Ой, бедненький! – воскликнула Рита. – А я дома не жила все это время. Я у своего парня жила, у него большая квартира. Я мальчика родила!
– Ой! – счел нужным воскликнуть провинциал. – Поздравляю! Теперь понятно, почему вас не было. Вы можете меня провести на семинар, Рита? Мне очень нужно. Очень.
– Конечно, – сказала девушка, молодая мать. – Сейчас я вам пришлю кого-нибудь, кто вас проведет под свою ответственность, члена Союза, а в следующий раз Арсений Александрович включит вас в списки.