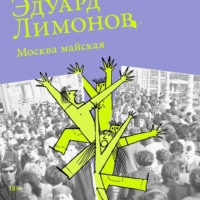Полная версия
Москва майская
Так и случилось. «Эд!» – позвала Анна. Он подошел, и его представили. Носатая крупная Жанна, владелица только что полученной (от НИИ, в котором она работала) квартиры в новом районе Москвы, бывшем еще недавно деревней, Беляево-Богородском, к счастью, не решилась сдать жилплощадь двум аспирантам-грузинам, с ними утром видела ее Анна, и вернулась на толчок в поисках другого варианта.
– Жанночка! – говорила Анна Моисеевна со свойственной ей лживой фамильярностью. – Мы с Эдкой очень тихие. Он все время пишет, а меня вообще не слышно. Лучше квартирантов ты никогда не найдешь.
Жанна оглядела поэта, и, по-видимому, его облик не внушил ей опасений, потому что она насмешливо улыбнулась. С весны 1967-го юноша стал носить очки в присутственных местах и на улицах, и очки придали его облику известную безобидность, какую обычно сообщают очки щуплому молодому человеку. Правда, юноша-поэт и пышная с яркими на ветру щеками Анна несколько более, чем это необходимо, контрастировали друг с другом, но при желании Анну можно было принять за сексуальную вампирессу, безжалостно сосущую соки из юнца. Очевидно, белошапочная Жанна – инженер, мать-одиночка – осталась удовлетворена таким вариантом. Люди склонны доверять доступным их пониманию ситуациям и с недоверием относятся к ситуациям незнакомым и неиспытанным. Возможно, мимо Жанны уже прошла однажды подобная неравная пара, может быть, аффектированное красноречие Анны возымело действие – как бы там ни было, через некоторое время они уже мчались в метро по направлению к искомой жилплощади.
Молодые женщины оживленно беседовали, а поэт испытывал большое облегчение от того, что ему нет необходимости участвовать в беседе. Еще раз он воочию убедился в полезности подруги. То, чего не умел делать Эд, с успехом и удовольствием делала Анна.
4
– Эд, сколько можно дрыхнуть! – Анна Моисеевна, умытая, с уже накрашенными губами, с заплетенной косой, белое кружево воротника наколото на черное платье-мешок, нависла над ним. – Ты дрыхнешь, Революционер дрыхнет. Я должна уходить.
– Ну и уходи. В чем дело?
– Что ты там нес ночью об отрезанных членах, вспоминал какой-то суп из крови… Ты не заболел со своим сюрреализмом?
– При чем тут сюрреализм…
Эд садится в постели.
– Володька дал мне почитать Марченко. Кошмар на кошмаре.
– Кто такой Марченко?
– Жлоб, случайно попавший в тюрьму. За незаконный переход границы. После этой книги жить не хочется. На хуя я ее читал, идиот!
Поэт встает и, дабы размяться, делает несколько наклонов. Анна опускает руку в плоскую сумочку и шарит там, время от времени извлекая и выкладывая на ночной стол тот или иной предмет женского обихода. Расческу, помаду, баночку с ярко-синей краской (ею она обильно окрашивает веки), мелкие деньги, более крупные деньги…
– Ты чего-нибудь хочешь от меня? – Уже в брюках, поэт стоит перед Борькиным зеркалом у постели и расчесывает длинные, остриженные по-московски в скобку а-ля советский Алексей Толстой, волосы. Он с неудовольствием отмечает, что у него физиономия комнатного растения. Рожа бледная. Хотя на дворе май, он редко бывает на солнце. Жизнь его проигрывается на сценических площадках таких вот, как Борькина, квартирок-трущоб, в которых холодно даже летом. Под аккомпанемент вечно текущих кранов, в писании стихов, в их чтении и слушании чужих произведений, в крикливых спорах об искусстве, и в пьянстве тоже, увы. Дитя подземелья. Нужно поехать в Сокольники с Андрюшкой Лозиным, подзагореть.
– Ты не мог бы съездить со мною в ГУМ, Эд?
– Нет уж, Анюта, ты уж вали сама сегодня. Революционер слиняет, я сяду брюки Судакову шить.
– Эд, я боюсь появляться в ГУМе сразу с десятком сумок…
– Не бери десяток, возьми несколько.
– Куда удобнее было бы, если бы ты поехал со мной, как в прошлый раз. Ты бы стоял снаружи, а я бы брала по одной – по две…
– Нет, Анюта, исключено, сегодня не могу. Достаточно того, что я шью эти ебаные сумки.
Сумки – их личное изобретение. Один из способов сделать деньги из ничего. Анна покупает несколько метров толстой в узоре крупных цветов чешской ткани, метр стоит 38 копеек, а Эд шьет из ткани сумки. И Анна продает их в ГУМе – Главном универсальном магазине – по 3 рубля штука. Так как неповоротливая советская легкая промышленность не обеспечивает граждан мелочами, то граждане с удовольствием покупают у полуседой еврейской женщины с безумными глазами красивые мелочи. С такой сумкой куда приятнее ходить по городу, чем с гнусным и скучным советским изделием. Чешские цветы радуют глаз и на морозе, и в осеннюю слякоть. Несколько раз Эд и Анна встречали в Москве свои сумки.
– Не забывай, что сегодня моя свадьба. Чтоб в семь была у Берманов, как штык. Купи цветов, пожалуйста. Не забывай, что мы друзья жениха…
Анна уходит, грустная. И потому, что коммерция скучна в одиночку, и потому, что сегодня свадьба Эда. И хотя и свадьба фиктивна, и в качестве жениха под именем Эдуарда Савенко и с его паспортом будет выступать бывший харьковчанин авантюрист Мишка Преображенский, Анне неприятно, что в паспорт ее поэта будет вписана женщина: Берман Евгения Николаевна… Прошагав некоторое время по Кировской, Анна Моисеевна останавливается у Главпочтамта. Может быть, мама Циля прислала ей немного денег из Киева? Заходит внутрь и становится в очередь к окну с буквами П-Р-С. Когда подходит ее очередь, протягивая паспорт в окно, Анна решает вернуться в Уланский и убедить Эда отказаться от авантюры. Эд не должен жениться на Жене Берман. Слишком сложная получится история. Не только брак фиктивен (в это посвящена лишь мать Жени, папочка, слава богу, не подозревает об обмане), но фальшив и жених. Мишка Преображенский будет играть роль Эда, потому что папа Берман, к сожалению, прекрасно знает пару харьковчан. Эд и Анна прожили несколько месяцев во дворе этого же дома на Цветном бульваре. Кухня Берманов на первом этаже окнами во двор прямехонько глядела на флигель под большим деревом, где обитали, отделенные некрепкой дверью от мира, в компании нескольких дюжин мышей, Эд и Анна. Мишка Преображенский поживет некоторое время в семье Берманов, у них две комнаты.
Месяц или полтора он будет называться Эдуардом Савенко. Слава богу, папа Берман знает настоящего Эда только как Эда Лимонова. Ну что ж, они тезки, что же тут такого. Совпадение. Через месяц-полтора суровый коротыш, папа Берман-очкарик, убедится в том, что Мишка – хороший парень, и пропишет его, то есть Эдуарда Савенко, в Москве. У Эда будет московская прописка. Ради этого и задумана сложная авантюра.
Почему такая сложная? Неужели нельзя заключить фиктивный брак с московской девушкой, у коей папа полегче, чем подозрительный Берман? Почему нельзя заключить фиктивный брак с девушкой вообще без папы или чтобы папа хотя бы никогда не видел Эда (и Савенко, и Лимонова) до этого? Можно. Но для этого они должны быть другими людьми. И Анне, и Эду не хватает обывательской хитрости, мелкой изворотливости. Ловчить они не умеют. Они вовсе не беспомощные типы, но все их стратегические построения страдают от избытка фантазии. Эду нравится сооруженная им авантюра: сегодня в четыре часа она будет приведена в действие. Эд и Мишка уже раскрасили сегмент печати на фотографии Преображенского. Фото будет переклеено в такси, по дороге из загса. Муж Савенко попросит шофера остановиться: покинет такси, и в него рядом с невестой сядет Мишка Преображенский, он должен поджидать их на Садовом кольце.
Почему Преображенского устраивает эта авантюра и почему он соглашается жить с Женей и в семье Берман? Экс-харьковчанин выплыл в Москве лишь пару недель назад. Он вынужден был сбежать из Казахстана без вещей и документов. Эд предпочитает не лезть в чужие истории, если протагонисты их не желают делиться с ним своими секретами, однако Анне он признался, что думает, что за Мишкой в Казахстане осталось мокрое дело. Может быть, Мишка кого-то пришил. Люди не убегают за здорово живешь, просто так, голяком, не прихватив насущно необходимых документов…
– Нам-то что, Анна, – сказал Эд, – Мишка – старый приятель. Он, может быть, и убийца, но своих он никогда не закладывал. Мишка дорожит своей репутацией. Он в плохом периоде, негде жить и даже нечего жрать. Полтора месяца жизни с Женей подымут его на ноги. А там поглядим… Наша же жизнь станет привольнее со штампиком московской прописки в паспорте.
Перевода от мамы Цили не поступило. Собственно, мама Циля и не обещала прислать перевод. Анне хочется, чтобы перевод был. Предстоят большие расходы. Женя Берман согласилась на фиктивный брак не задаром. Сегодня Эд должен выплатить ей половину обещанной суммы. Вручить по пути из загса. В такси. Как в фильмах…
Анна Моисеевна стоит некоторое время у Почтамта в раздумье. Утренний майский ветерок трогает полы плаща-болоньи. В конце концов она решает не возвращаться в Уланский. Эд рассердится, они поругаются, и он все равно поступит по-своему. Эд упрямый. Наклонив голову, широко загребая майскую Москву сумкой, Анна устремляется по Кировской улице в направлении площади Дзержинского. Ее обгоняет сопровождаемая милиционерами черная «Волга» с сиреной.
«Хорошо кагэбэшникам, – думает Анна Моисеевна, вздыхая. – И начальникам. Им прописка не нужна».
5
Эд выходит в кухню. Умываться. Из комнаты Революционера на него накатывает облако сизого дыма. Революционер сидит за Борькиным столом спиной к Эду и быстро водит карандашом по бумаге.
– Доброе утро! Очередная прокламация к народу?
– Доброе утро! Как спалось?
Поэт плещет воду на шею и уши.
– Хуево спалось. Спасибо вам, дорогой товарищ. Подсунули мне подпольную литературку… Кошмарики…
– «В круге…» или Марченко? – спрашивает Революционер, не отрываясь от письма.
– Марченко. Психопат ваш Марченко.
– Почему же психопат? В тюрьме, брат, не сладко. Могу тебя в этом заверить.
– Тюрьмы есть везде, Володя. Есть, были и будут. Без тюрем невозможно. Козье племя друг другу горла перережет без тюрем.
– Марченко – политический. Он сидел за попытку перехода границы.
Поэт плещет водой себе на плечи и хватает полотенце.
– Ха-ха-ха! Теперь это называется политический. Я называю таких, как он, психопатами. Больше того – он самосад. Я тоже мог бы не вылезать из тюрьмы. Это легко – стоит только расслабиться и психануть. Не попасть в тюрьму – вот в чем трюк. Не попасть, но жить так, как ты хочешь. Тюрьма – это поражение. Для того, чтобы сесть, геройство не нужно, нужна глупость.
Высказавшись, Эд тотчас же вспоминает, что Революционер тоже ведь самосад. Каким же нужно быть идиотом или святой невинностью, чтобы в 1948 году призывать к уничтожению колхозов и председателей! В самом зените сталинского времени!
– И все же, как я понимаю, книга произвела на тебя большое впечатление. Она тебя задела, Эд… Но разве ты не понял, что марченковская тюрьма – модель советского общества?
– Так задела, что я блевать вставал. Наворотил такое количество ужасов! Я ни хуя не верю в эти тюремные истории. Они того же происхождения, что и охотничьи или рыболовные. Те всегда утверждают, что убили самого большого кабана или вытащили вот такую рыбищу. Когда их прижмешь и заставишь показать фотографию, рыба оказывается в десяток раз меньше. Марченко наслушался тюремных легенд и решил их присвоить, дабы свою историю поужаснее сделать…
Революционер отложил карандаш и с любопытством посмотрел на поэта.
– С такими взглядами, молодой человек, вы можете сделать прекрасную карьеру в лоне Союза советских писателей. Непонятно, почему вы так упорно называете себя неофициальным поэтом, неконформистом?
– Из того, что психопат попал в тюрьму, испугался и выплеснул весь свой страх на страницы дешевой папиросной бумаги, вовсе не следует…
– Я оттянул шесть лет, и я тебе говорю, что так всё там и есть. Тюрьма Софьи Васильевны именно такая.
В голосе потомственного революционера прозвучали явственно злость и раздражение.
– Даже если пару миллионов уголовников и сколько-то там десятков тысяч «политических», как вы их называете, сидят в тюрьме, Володя, то еще двести пятьдесят миллионов не сидят и, по всей вероятности, за решетку никогда не попадут. Не разумнее ли ориентироваться на эти двести пятьдесят миллионов, нежели на тюремное население…
– Если бы ты посидел, запел бы другое, поэт! Если бы тебе пришлось увидеть твоего товарища, застреленного и умирающего хрипя на колючей проволоке в зоне, ты навеки бы возненавидел гадов…
Володька вскочил и заходил по комнате.
– Возненавидел бы их и поклялся бы им отомстить. Как поклялся я…
– Вот-вот, вы будете мстить, сводить счеты полувековой или по меньшей мере четвертьвековой давности и опять зальете кровью страну…
– А что плохого в крови?
Революционер подошел вплотную к прислонившемуся к дверной раме поэту (полотенце на плече) и поглядел ему в глаза.
– Кровь очищает. Пока жертвы не будут отомщены, не будет покоя России!
– Ой, блядь, как мне надоели ваши жертвы… Жертвы! Вульгарно мечтающие стать палачами. Лучше скажите, как жить сегодня. Нам, моему поколению. Мне двадцать шесть лет, Володя! Когда умер Сталин, мне было десять. Сколько можно вопить о позавчерашнем дне и пренебрегать днем сегодняшним? Вы люди прошлого, Володя!
Они стоят друг против друга разъяренные и злые. Это не первая их стычка. За десять дней, в которые они делят Борькину квартиру, они успели сцепиться с полдюжины раз…
Эд презирает демагогов. Он еще мог бы понять людей с оружием в руках, отстаивающих свои заблуждения. Не нравится тебе советская власть – давай, хватай автомат и действуй. Но играют взрослые люди – Володька со товарищи – в детскую игру сыщиков и воров, бегают по Москве с карманами, набитыми бумагами, прячутся от глупых, по их мнению, чекистов и похваляются перед друзьями, как ловко они нырнули в подворотню или вдруг выпрыгнули в последний момент из поезда метро. А агент не успел, дурак. Да если бы КГБ всерьез захотел, получил бы сверху приказ, они взяли бы всех демагогов и хвастунов в одну ночь. Что-то никто и никогда не слышал о Володьках и Якирах в суровые времена Йоськи Сталина. Тихо было.
«Политики» появились, потому что им разрешили появиться. Времена изменились. Власти относятся к психопатам менее серьезно. И хотя якиры, володьки и солженицыны стараются доказать, что времена не изменились, само существование якиров, володек и солженицыных свидетельствует против этого. Жулики…
Первым представителем этого типа («политиков»), встреченным Эдом, был поэт Чичибабин. Здоровенный ражий мужчина, Чичибабин «вел» (куда вел, зачем вел, но именно так тогда говорили) поэтическую секцию при Доме культуры работников милиции в Харькове. Ирония состояла в том, что в секции не было ни единого милиционера, очевидно, они не писали стихов, но было полным-полно молодых контрреволюционеров и даже «сионистов», как полусерьезно называл Бахчанян Юрку Милославского и его друзей – произраильски настроенных юношей еврейской национальности.
Впервые Эд заподозрил Чичибабина в демагогии на вечере поэзии. Тот прочел стихотворение, в котором рефреном множество раз повторялась строка: «Самые лучшие люди на свете – это рабочие». «Как же, на хуй, рабочие ему лучшие люди, – думал Эд сидя в зале. – Врешь, сука горбатая (Чичибабин горбился), я сам был рабочим и с большим удовольствием свалил из этого сословия. Я был знаком с тьмой рабочих, хуй-то они лучшие люди… В рабочих закономерно остаются те, кто не смог стать ничем большим, у кого нет таланта, то есть самые ничтожные представители человечества. Жулик ебаный. Зачем написал такое – чтобы лизнуть жопу советской власти?» Юрка Милославский с компанией были куда лучшего мнения о Чичибабине. Эд же с самого начала заподозрил бывшего зэка в неискренности и по мере узнавания его (они стали встречаться иной раз, ибо Эд прочно осел в харьковской богеме) убедился, что первое впечатление оказалось верным.
Тогда, в шестидесятые годы, бывшие зэки были в большой моде. Каждый провинциальный город обзавелся своим бородатым солженицыным. В Харькове на эту должность единогласно избрали Чичибабина. Бородатый и здоровенный, ражий и рыжий, зимою надевавший валенки (комплектом к валенкам служила вывезенная им из лагеря бывшая лагерная медсестра – рябая Мотик), Чичибабин с удовольствием играл роль хмурого, настрадавшегося русака. Как и Володька-революционер, он курил махорку, заворачивая ее желтыми пальцами в газету, имел пристрастие к простому русскому языку, почерпнутому из словаря немца Даля, и старательно подчеркивал свою любовь к Мотику, которая якобы спасла ему жизнь тем, что вначале сумела перевести его в лагерный лазарет, а позже устроила на должность лагерного бухгалтера. Бывший вор и рабочий, новоиспеченный поэт Лимонов, недоверчиво глядел на это существо, более а-ля рюс, чем мог бы быть русский мужик, вытащенный внезапно из сибирской деревни. Эд всякий раз иронически хмыкал, когда в разгар всеобщей беседы и выпивки, без пятнадцати одиннадцать, Чичибабин вдруг вставал, громко говорил: «Мне пора. Мотик ждет» – и удалялся горбатой походочкой. «Показушник!» – думал Эд. Харьковские интеллигенты же глядели на преданного Мотику Чичибабина с обожанием, он был для них примером нравственной чистоты. Для Эда, проведшего первую половину жизни среди блатных и рабочих, Чичибабин был фраером, ловко наебывающим доверчивых интеллигентов. Заметив однажды, каким взглядом поглядел харьковский солженицын на красивую Валечку, восемнадцатилетнюю продавщицу магазина «Поэзия» (в нем тогда работала и Анна), Эд сказал Анне, смеясь: «Помяни мое слово, это ходячая нравственность скоро бросит рябого Мотика. Ему очень хочется свежатинки». Так и случилось. Харьковский солженицын бросил Мотика и женился на молодой прыщавой девке.
Володька-революционер вначале нравился Эду. Пока он в нем не разобрался. Когда он в нем разобрался, Эд сказал себе, что Володька, без сомнения, личность искренняя. Но тем хуже для Володьки, ибо тип профессионального революционера-баламута, к которому Володька принадлежит, не нужен в СССР в нашу эпоху. Без сомнения, думал Эд, наблюдая Революционера, такими и были профессиональные революционеры в свое время, прибавь или убери несколько черт. Фанатик – ненависть из него так и брызжет, – слепорожденный, ибо верит в то, что только он прав, верит в свою правду, как в Бога. А с другой стороны, что ему еще остается, Володьке: творчески он ни на что не способен. Он, правда, сочиняет перевертни в свободное от сочинений прокламаций и игр с КГБ время. Но перевертни лишь с большим трудом можно отнести к искусству. Перевертень можно использовать как прием в стихотворении, но сочинять только перевертни – маразм.
6
Жанна сдала им одну комнату в квартире из двух, и сдала немедленно. За тридцать рублей в месяц. Они не возвратились в Москву за чемоданом, но остались ночевать в Беляево. Жанна же, к их удивлению, надела белую шапку, положила на дно сумочки их тридцать рублей и отправилась в обратный путь в Москву, в квартиру своей мамочки, где она оставила пятилетнего сына. Счастливы тем, что хотя бы на одну ночь остались одни, Эд и Анна посидели на кухне, постояли у открытого окна, глядя в желто-ржавое поле и зиявший через дорогу еловый лес, и легли спать. История умалчивает о том, занимались ли они в ту ночь любовью, не подлежит, однако, сомнению, что поэту одно за другим приснились все последующие его приключения в жизни – покорения Москвы, Нью-Йорка, Парижа, ужасы и несчастья, и такое же количество веселых и счастливых приключений. Ибо это была первая ночь нашего героя в его первой в жизни столице.
К их удовольствию, Жанна стала жить между квартирами. К их неудобству, Беляево оказалось все же слишком далеко от центра Москвы, и путешествие всякий раз съедало целый час в одну сторону. Самой неудобной частью путешествия была его автобусная часть. Автобуса приходилось ждать минут двадцать, а то и полчаса. Насколько автору известно, современные Эды и Анны могут добираться в Беляево комфортабельней и быстрее, где-то именно в районе дома Жанны находится теперь станция метрополитена.
Собственно, ездить-то было особенно некуда. Общество подруги детства Анны – Аллы Воробьевской, вышедшей замуж за москвича со смешной фамилией Письман и теперь жившей в Москве в районе Ленинских гор, – не привлекало Эда. Возможно, в юности Алла была девушкой темпераментной и стремительной, но к тридцати годам остепенилась и жила теперь с Сеней – простым советским инженером, как он себя называл. Отличительной особенностью Сени была противоестественная страсть к «Лунной сонате» Бетховена. Не умея играть на пьяно, он сумел подобрать сонату, запомнил – вундеркинд, – на какие клавиши нажимать, и предавался этой бесцельной страсти круглый год, все свободное от инженерства время. Другой, менее оригинальной страстью инженера Письмана была страсть к книге «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Книгу, как и сонату, он тоже выучил наизусть…
В несколько вечеров, проведенных у Письманов, поэт всякий раз сцеплялся с начитанным инженером. Письман, как, очевидно, читатель уже успел догадаться, маленький, худой, бледнолицый еврей с глазами невольника, ворочающего всю жизнь тяжелое весло галеры, не мог понять, откуда у прочитавшего так мало книг сидящего перед ним молодого человека такое количество наглости и уверенности в себе, позволяющее ему спокойно утверждать, что он поэт, да еще и гений. Определение «гений» остается на совести той любившей пышности эпохи, спокойно разбрасывающейся подобными и даже еще более наглыми и щедрыми определениями. Уверенность же поэта в себе была, пожалуй, ни на чем, кроме собственных стихов, не основана. Две оклеенные в синий рубчатый вельвет тетради, содержавшие около двух сотен стихотворений, давали фанатику веру в себя. И еще в самой глубине его существа всегда теплилась иррациональная вера в то, что он не такой, как все люди.
Сидя против Письмана и слушая письмановские нравоучения по поводу того, что вначале ему – Эду – следовало бы ознакомиться в достаточной степени с русской и мировой культурой, а уж потом покушаться на создание шедевров, поэт хмурился, злился, пытался и не умел объяснить Письману свою правоту. Он даже, совсем того не желая, обидел несколько раз въедливого зануду-инженера, объявив ему, что все непоэты и нехудожники являются исключительно бесполезными существами и только творческая деятельность является достойным занятием для настоящего мужчины. «Инженерам же и рабочим следует повеситься», – объявил экстремист, вызвав тем самым у реалиста Сени подозрения в умственном помешательстве юного сожителя подруги своей харьковской жены.
– Талант важнее эрудиции, – утверждал поэт. – Эрудицию возможно приобрести, но талантливости научить невозможно. Гений готов к созданию шедевров уже в пять лет. Моцарт…
Сеня охал, вскрикивал, дергал себя за ухо, схватившись руками за голову, убегал в другую комнату, призывал там в свидетелей Аллу и Анну… Возвращался, кричал о всеобщем упадке культуры, о нечесаных молодых недорослях с неизлечимой манией величия, но ни единое его слово не достигало цели. «Он хочет, чтобы я был такой же, как он, смирный гражданин, чтоб получил от жизни в зубы кооперативную квартиру, подержанную Аллочку, которая перебесилась с другими, а с Сеней отдыхает от буйной молодости, чтоб я знал свое место, как он… Хуй-то», – думал Эд. Все нормальные люди, встреченные им в жизни, старались его исправить, наставить на путь истинный, сомневались в искренности его порывов. Чем хороша Анна, что, как подлинная «шиза», она не исправляет его и не делает ему замечаний. «Анна знает, что я не просто еще один юноша, пишущий стихи, – что мои стихи особенные. Если мы и ругаемся иногда, то только по поводу моего пьянства. И она права – я должен пить меньше…» Сеня же – неудачник, у него не хватает храбрости быть личностью. Он боится. Эд перестал ездить с Анной к Письманам, хотя в последний визит даже получил некое садистское удовольствие от того, что высмеял детские мемуары Письмана. Сеня с ностальгической грустью рассказывал собравшимся о том, как он лепил и пек вместе с приятелем пирожки с начинкой из дерьма.
У Бахчаняна уже появились в Москве приятели, и он познакомил Эда с некоторыми из них. Серым ноябрьским днем снег срывался было сухими макаронинами с неба, но тотчас же прекращался вдруг. Они отправились в старые, деревянные, но уже перекореженные кое-где бульдозерами кварталы – в Текстильщики. Старая деревянная жизнь соседствовала бок о бок с новой железобетонно-скучной жизнью. Художник Гробман жил еще в старой жизни на втором этаже деревянного дома, серого от старости и снега, дождей и солнца Москвы. Гробман встретил их в сапогах. Усатенький, самоуверенный, держащийся свободно худой типчик понравился Эду.
В плотно охваченной полками с книгами, иконами и картинами комнатке Эд прочел свои стихи москвичу.
Кухарка любит развлеченьяТак например под воскресеньяОна на кухне наведет порядокИ в комнату уйдет на свой порядокОна в обрезок зеркала заколет…– Подожди! – сказал Мишка. – Ирка! – позвал он жену. – Иди-ка сюда! Тут человек гениальные стихи привез!