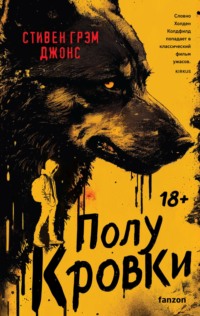Полная версия
Проклятие Озерной Ведьмы
Как выяснилось, это был не целый грузовичок, а только его задняя часть. Его явно сбили на высокой скорости, въехав в бок снегоуборочной машиной, угнанной Мрачным Мельником. Задняя дверь и задний бампер «Бронко» приземлились в сугроб на нагорной стороне дороги, а что с остальной его частью? Вот в чем состоял вопрос: где? Если бы точно напротив задней двери и бампера, то в этом был бы какой-то смысл, но суть в том, что обломкам вовсе не обязательно иметь какой-то смысл. На нижней стороне хайвея, на стороне озера Индиан местность была неровной, ухабистой, с глубокими, как ад, ямами, она не прощала ошибок. И просто так она не отдает своих мертвецов, пока у нее не возникнет такого желания.
Каковое, по словам Уэйнбо, могло-таки появиться сегодня вечером.
Первую неделю лета он провел, вводя координаты округа Фремонт на своем компьютере, потом каким-то образом подключился к миниатюрному навигатору и с того дня объезжал эти воображаемые линии вдоль и поперек на своей лошади, утверждая, что у «Бронко» нет иного выхода, кроме как появиться. А теперь, когда это, возможно, уже произошло, он полагал, что заслужил вознаграждение в две тысячи пятьсот долларов, собранных каким-то образом Сетом Маллинсом, мужем помощницы, для того, кто найдет тело его жены.
Что ж, Уэйнбо должен будет получить свои две с половиной тысячи, а еще десятку, добавленных Ланой Синглтон, поскольку, как это было сказано в ее сообщении в «Стандарде», Пруфроку необходимо излечение, разве нет?
– Он хочет, чтобы ты взяла свою камеру, – говорит Пол, опуская телефон, который в связи с празднеством, затеянным Уэйнбо, без конца звякает.
– У него нет своего телефона?
– Он говорит, это нужно включить в твой фильм.
– Но следы, – возразила Хетти, имея в виду следы на снегу.
– Ах это… – говорит Пол, как будто… сожалея, что сказал эти слова?
– Что ты имеешь в виду? – Хетти подошла ближе.
Пол ждет, когда до нее дойдет. Да, тут есть следы, но почему бы им и не быть? Даже на таком легком снежке без следов не обойтись. Но беда в том, что след оставлен только передней частью модельных туфлей. И тут Хетти видит это, ей приходится тихонько охнуть: по обе стороны следов отпечатки пальцев, оставивших четкие впадинки, так что следы тут оставили не только ноги, но и руки.
– Вот так, – говорит Пол и забрасывает Йена себе на спину, словно шарф. Мальчик восторженно визжит.
Пол наклоняется над следом, и он прав: его ладони шире ступней, и только передняя часть его армейских ботинок оставляет след в снегу.
– Я не понима… это лишено всякого смысла, – говорит Хетти. – Ангел, она… она ходит, она ведь прямоходящая.
– Ангел? – возбужденно переспрашивает Йен.
– Она ведь не носит обуви, верно? – говорит Пол.
– И что это значит? – спрашивает Хетти.
– Это значит, что мы на кладбище в вечер пятницы тринадцатого, – говорит Пол, легко шагая с Йеном, сидящим у него на закорках. – Я что-то вовсе не уверен, что события должны иметь какой-то смысл. Зачем приходить сюда, чтобы откопать что-то? Зачем уходить на всех четырех?
– Может быть, они упали, плохо держатся на ногах. – Хетти пытается изо всех сил выдать это за правду.
– Может быть, – говорит Пол, но его такой вариант явно не убеждает.
– А где начинаются следы? – спрашивает Хетти, пытаясь найти какой-нибудь смысл в снеге, который они затоптали.
– Тут есть кое-что поважнее. – Пол начинает злиться, он снимает Йена, поворачивает его на бок. – Что бы ты предпочла: пойти по этим следам и снять для фильма какого-нибудь чокнутого грабителя могил или… ну, сама знаешь. Разгадать самую большую тайну городка?
– Это видеозапись, а никакой не фильм, – лепечет Хетти, она неуверенно покачивается на ногах, не зная, в какую сторону ей идти.
– Эти следы никуда не денутся и завтра… – говорит Пол, пожав плечами.
Йен на руках у Пола повторяет его движение.
Все это чертовски мило.
– Но мы попросим помощи? – уточняет Хетти, накидывая ремешок камеры себе на шею, словно это не камера, а сумочка.
– Мы можем быть героями, – поет Пол и ведет их назад к мотоциклу, напевая известные ему куплеты из остальной части песни, правда, запомнил он лишь малую часть.
Полчаса спустя эти трое снова на мотоцикле, они осторожно едут по рытвинам, можно даже сказать, идут на цыпочках под плотиной, перегораживающей речку Индиан на большой поляне, и возвращаются туда, куда ходят охотники. Хетти хочет снять несколько кадров отсюда – снять возвышающуюся над ними плотину. Может быть, ей даже удастся наложить постер «Челюстей» на этот бетон? Может получиться идеально – кадры, благодаря которым «Дикая история» станет вирусной, отправится в стратосферу.
Только этот одинокий пловец и акула, поднимающаяся за ней из глубин.
Шлем Йена подпрыгивает в сотый раз, опять ударив ее по подбородку.
Она держит телефон Пола, навигатор направляет их к координатам, которые скинул Уэйнбо; он настаивает, что это дело настолько засекречено, что его послание может самоуничтожить – прости-прощай, телефон Пола. Как только они остановятся, повторяет она себе, она достанет собственный телефон, чтобы сообщить о разграблении могилы.
Но они едут так быстро. Эта ночь напоминает водные горки. Хетти сделала один опасливый шажок, а теперь уже не может остановиться, потому движется все скорее и скорее. Разве они не Ангела искали? Как их поиски могли превратиться в экскурсию по кладбищу, а теперь в путешествие по лесу в поисках одного или двух трупов?
Впрочем, она знает, что Пруфрок в октябре именно такой.
Как только часы пробьют полночь, может случиться что угодно.
Еще две сотни ярдов вверх – и они видят пегую лошадь Уэйнбо, она стоит на дороге, у ее ног висят вожжи.
Пол сбрасывает скорость и упирается ногой о землю, чтобы мотоцикл не завалился набок.
– Приехали, – говорит Хетти, и Пол, чтобы не напугать лошадь Уэйнбо, увозит их в высокую траву, припорошенную снежком. Шлем Йена медленно поворачивается под подбородком Хетти. Мальчишка с восторгом наблюдает за лошадью. В ночном свете лошади выглядят просто необыкновенно, правда?
Хетти придется вернуться сюда, чтобы и это снять на пленку.
Эта документалка будет длиннее двадцати минут, пообещала она Училке. Гораздо длиннее.
Пруфрок раскрывается все больше и больше, ведь правда? И тут она решает, что не будет накладывать «Челюсти» на сухую сторону плотины, она возьмет двери лифта из «Сияния», когда из них хлещет кровь, заливая долину красным, – так и начинается «Дикая история». Иными словами, ей нужно всего лишь проецировать на плотину «Дикую историю». Это будет идеально.
– Вон там, – говорит Пол, потому что он – единственный, кто не смотрит на лошадь.
Это передок «Бронко» под густым налетом листьев, веток – всего, что падало сверху, наросший слой почвы образовал что-то вроде колыбели вокруг обломков, надежнее укрыв их. И Хетти видит, что именно сюда и закатилась разбитая машина, к тому же недавно, судя по тому, что снежная корочка усыпана сосновым иголками, попадавшим на нее при попытке вытащить обломки из их плена.
Пол замирает, ждет, когда Хетти снимет Йена с сиденья, чтобы можно было поставить мотоцикл на откидную подножку. В том, как он это делает, есть что-то от пятидесятых, как будто он вот-вот закатает обшлага джинсов и зачешет назад волосы а-ля Элвис Пресли.
Нет, Хетти не уедет из Пруфрока, она это знает. И теперь она догадывается, что всегда это знала, черт его задери, этот Пруфрок.
Но дом – это место, где твое сердце, разве не так?
А ее сердце сейчас паркует мотоцикл. Она сажает на него своего младшего брата, просит подождать здесь, не слезать с него, несмотря ни на что, договорились?
Йен отвечает ей коротким детским кивком, кивком под названием «рад угодить».
– Обещаешь? – спрашивает Хетти; он кивает быстрее, он в восторге уже от того, что его взяли в это восхитительное ночное путешествие.
– Глазам своим не верю… – говорит Пол, убедившись, что «Бронко» в конце концов нашелся.
– Они все еще там? – спрашивает Хетти, обходя обломки с включенной камерой, но сомневаясь, что ей хочется увидеть настоящих мертвецов.
Пол включил фонарик своего телефона и навел луч света на обломок красного катафота, каким-то образом вонзившегося в ствол дерева. Он осторожно делает шаг вперед, и Хетти видит, что пассажирская сторона «Бронко» не просто смята – она раздавлена.
– Черт, – ставит диагноз Пол.
Хетти, вынужденная согласиться, медленно кивает.
– Вероятно, она так и простояла капотом вверх четыре года, – снисходительным голосом замечает Пол, глядя на обломки. – Деревья, которые ее держали, в конечном счете замерзли настолько, что треснули и…
– И обломки скатились вниз, – заканчивает Хетти. А потом: – Но они все еще?..
Пол направляет луч фонарика внутрь кабины, и, как и в «Челюстях», свет выхватывает из тьмы истлевшую голову.
Хетти и Пол отскакивают, держась друг за друга.
Камера падает на заснеженную траву, срабатывают некоторые кнопки управления, часть миниатюрных считывающих головок приходит в неистовое движение. Когда из-под машины не появляется никаких зомби с намерением выесть у них мозги, Пол разражается смущенным нервным смехом. Хетти знает, что ей бы тоже следовало рассмеяться, потому что это настолько глупо, что даже смешно, вот только…
Видала она эти фильмы.
Это вполне мог быть кот в кладовке, но можно было увидеть и пускающего слюну членоголового инопланетного жука, выскакивающего с заднего сиденья.
– Что? – спрашивает Пол, он поднял руку, растопырил пальцы.
Своим телефоном он освещает все.
Кровь.
Он поворачивается на заднице, роняет телефон, ему приходится поднять его со снега и… и…
Это Уэйнбо.
– Нет, – говорит Хетти или только слышит, как говорит, даже не осознавая, что уже отошла от этого.
Уэйнбо распорот. Его кровь кажется такой красной, такой фальшивой.
Хетти отползает назад. Ее руки и движения неуклюжи, она не кричит – она знает, что не стоит вешать себе на спину эту мишень.
Тем более что она, возможно, и без того уже стала мишенью.
– Пол, Пол, Пол, – произносит она, все еще пытаясь отползти прочь, хотя это «прочь» оказывается к отсутствующей двери «Бронко».
Ей на плечо падает сгнившая рука скелета, а остатки машины проседают, издавая неожиданный звук, похожий на хлопок, и чуть не сминая ее.
Она откидывается в сторону, ее ноги уже бегут, даже не думая о том, готово ли к бегу ее тело.
– Пол, Пол! Нам нужно!..
Через шаг-другой она останавливается, потому что: Пол?
Хетти отчаянно вертится на месте, вглядываясь в каждый квадрант. Вот только все сразу увидеть нельзя. К чему-то ты непременно должна стоять спиной.
Она вращается, вращается, спотыкается, она готова заплакать, чувствует, как плач поднимается к ее горлу, набирает силу в ее груди, в ее душе.
– По-о-о-о-ол! – кричит она во весь голос, и кому теперь дело до мишени на спине.
Она качает головой, нет – она больше не хочет снимать документалки, она прекращает их снимать, она выкинет то, что уже отсняла, а для выпускного проекта придумает что-нибудь новое, нормальное.
Лес не отвечает.
Она обхватывает себя руками, все еще посматривает направо, налево, оглядывается назад.
– Пол? – произносит она тише.
Она падает на колени, качает головой: нет, пожалуйста, нет, и быстро ползет вперед, к видеокамере, ее мигающий красный огонек свидетельствует, что запись продолжается.
Хетти хватает камеру, она готова использовать ее как молоток, швырнуть ею в любого, кто подойдет к ней, и случайно нажимает «воспроизведение» и тут же бросает ее, потому что уверена, что кто-то подходит к ней со спины.
На маленьком экране ее видеокамеры, лежащей в снегу и на желтой траве, воспроизводятся отснятые кадры.
Камера шествует по кладбищу в сторону… пристани.
Камера снимает общий план сбоку и издалека, но она делает это, чтобы возникло впечатление, будто она шпионит, будто снимает что-то запрещенное.
Хотя на самом деле она знает шерифа.
Это он помог запустить бензопилу под музыку «Слипнот» – это был его выбор.
Для того ее и построили: теперь на экране в конце пристани шериф Томпкинс запускает бензопилу, ее голубой дымок улетает в ночное небо так, что сам Дэвид Линч вздохнул бы с удовлетворением, отчего даже Мартин Скорсезе смахнул бы со щеки скупую слезу.
Шериф Томпкинс один-два раза нажимает на рычажок газа, потом опускается на колено, словно собирается пропилить доски новой пристани, и вот Хетти стоит над его плечом – соучастник его подлой и громкой работы.
Но он не вонзает острые и быстрые зубы пилы в доски пристани. Он распиливает пополам каноэ, округлый конец направляющей шины с движущейся пильной цепью вспенивает озерную воду, светлые тягучие волокна корпуса скручиваются и бесятся в воде.
Это должно означать, что дни пруфрокского слэшера сочтены.
Пила со стрекотом прорезает зеленое стекловолокно, и каноэ наконец распадается на две части, и обе следуют курсом «Титаника» в темные глубины, а потом еще один панорамный кадр: шериф Томпкинс вздымает бензопилу к небесам и грозит ею богам.
Как и написала в сценарии Хетти.
Но сейчас в видоискателе ее камеры все идет не по сценарию. Или же этот сценарий был написан задолго до ее рождения. Хетти стоит на коленях, она снова крутится на месте, украдкой переводит взгляд камеру, словно чтобы снова взять ее в руки, но тут пугливый заяц ее органов восприятия говорит ей, что она… не одна.
Она прижимает ладонь ко рту, задерживает дыхание, заглушает то, что могло выйти криком.
Медленно, чтобы не привлекать к себе внимания, она поворачивается и, увидев то, что находится за пределами кадра, падает, потом перекатывается на бок, то есть прямо на камеру.
После этого целая буря эмоций, она ударяется лицом об объектив, снег налипает на ее кожу. Кровь из ее носа и рта такая яркая на белом снегу, и эта кровь либо вытекает из нее, либо пытается укрепить ее, и она все еще тянется вперед, словно камера достаточно тяжела, и если ей удастся ухватить ее, то она станет оружием, ее спасителем, который выведет ее отсюда, кем бы он ни был.
Но ей удается только чуточку оттолкнуть камеру от себя.
Ее лицо, чуть сдвинутое от середины, все еще заполняет этот видоискатель, а ее рука нащупывает кнопку «запись», чтобы сказать что-нибудь.
– Мам, – шепчет она прямо в камеру слабым голосом, и вдруг какая-то сила переворачивает ее на бок, как Крисси в «Челюстях», на объектив попадает снег, искажая левую часть кадра.
А в кадре от пузыря к пузырю движется что-то, оно… прямее, чем собака или медведь, оно бледно, как ночной халат, черный и свободный наверху, словно копна волос.
Столько волос.
Женщина.
Ангел озера Индиан.
Она бесплотная и неправильная, может быть, мертвая, вот только ее сопровождает что-то движущееся, и когда это существо начинает двигаться по следам, оставленным Хетти, хотя и чуть в стороне (это мужчина, он перемещается на четвереньках, светлокожий человек в лохмотьях, оставшихся от костюма, перепрыгивает через пузыри в объективе камеры), когда это существо, которое тоже мертво, приближается к ней, его голова покорно склоняется все ниже, словно оно знает, что поблизости находится его бог, а еще оно… тащит что-то?
Что-то крупное и уворачивающееся, он удерживает его зубами, как подношение.
И кладет свой дар перед ногами Ангела.
Мгновение спустя, видимо потраченное на размышления, Ангел наклоняется к подношению, потом поднимает голову и сурово смотрит на дарителя.
После этого вспышка движения, голова существа мечется в ее объективе, минуя пузыри, выходит на свободное пространство, где пауза выявит неподвижное человеческое лицо, рот в ободке крови, пустые глаза, волосы, по-прежнему аккуратно лежащие на своем месте благодаря тому клею или спрею, что использовал бальзамировщик.
А потом оно исчезает. А вместе с ним исчезает и Ангел.
Все, что остается в глазке камеры, – это верхушка высокой травы, и светлая корочка снега, и деревья, а еще дальше, в тридцати или сорока футах, расположенный в центре, как расположила бы его Хетти, если бы все еще продолжала съемку, мотоцикл.
Маленького мальчика на сиденье нет.
«Дикая история Пруфрока, Айдахо» не закончилась, ни в коей мере.
Она только начинается.
Фильм ужасов
Это не коридор средней школы Фредди, это не коридор средней школы Фредди.
Если бы это был тот коридор, то Тина лежала бы футах в двадцати впереди в своем непрозрачном полиэтиленовом мешке для трупов, который тащат за угол по луже ее собственной крови.
Вместо этого – опять, хотя каждый раз воспринимается как первый, – в этом мешке для трупов лежу я.
Я беспомощна, когда лежу на спине, и в мешке нет воздуха, мои ноги как ручки коляски, за которые меня тащат, и шкафчики, двери, образовательные постеры и приглашающие баннеры по обеим сторонам видятся мне как в тумане, и все это происходит в средней школе Хендерсона, в которой я давно не учусь.
С тех пор как Фредди вонзил в меня свои когти.
Я хочу кричать, но знаю: если я открою рот, то из него вырвется лишь блеяние умирающей овцы. Я душу крики ладонью, пытаюсь пережать свое горло, гашу панику, но мои локти скребут по полиэтиленовым стенкам мешка громче, чем следует, и…
Он оглядывается.
Его лицо покрыто шрамами и рытвинами, в глазах виднеется блеск насмешки, словно он набедокурил, но ему это сошло с рук, блеск, который распространяется на его губы, на одну сторону его искривленного рта, заостряющегося в ухмылку, прежде чем его голова повернется назад, как у дозатора конфеток «Пэц», потому что шея у него вспорота, и из этого окровавленного обрубка высовывается грязная ручонка маленькой мертвой девочки, пытающейся вернуться в мир. И…
И, если верить Шароне, так оно не должно быть.
Она – мой психотерапевт, с которой я встречаюсь два раза в месяц благодаря своему герою и главному выгодоприобретателю Лете Мондрагон.
Шарона научила меня постоянно твердить про себя: «Это всего лишь кино, всего лишь кино».
Чтобы справиться с панической атакой, я должна думать о своей жизни, разыгрывающейся в кинотеатре на свежем воздухе. Хотя я никогда не бывала в автокинотеатрах. Но, очевидно, припозднившись в своем развитии, в итоге на открытом воздухе появятся шесть или восемь кинотеатров, и все в этом претенциозном Стоунхенджском кружке, каждый со своим собственным парковочным местом. Если тебе не нравится, что показывают на одном экране, можешь набрать в рот попкорна, переехать в соседний кинотеатр, потом в другой, пока не найдешь тот, что тебе по вкусу, что поможет тебе пережить эту ночь, а не уловить себя в ней.
– Вы здесь потребитель, – так сказала мне Шарона во время нашей первой сессии. – А расплачиваетесь вы тревогой, страхом и паникой, понимаете?
Первая моя часть, та, которая набита попкорном, должна согласиться с тем, что все – только кино, ничего больше. Словно можно было не допустить, чтобы ужас «Последнего дома слева» затрагивал самые твои больные места.
Но Шарона не знает, что такое ужас. Только чувства, сожаления, стратегии, как преодолеть мои собственные рационализации и паранойю, мою дурную историю и прочие дерьмовые семейные проблемы.
Я часто говорю ей quid pro quo[7], но сомневаюсь, что до нее доходит тот смысл, который я вкладываю в эти слова.
Вот как она объясняет, что я чувствую в такие моменты («чувствую» на медицинском языке заменяет слова «чем я поглощена»): моя тревога есть смирительная рубашка, ограничивающая меня. Поначалу я воспринимаю ее слова как объятие, как нечто, куда я могу улечься, как в гнездышко, но спустя некоторое время… оно ведь не знает, когда остановиться, верно я говорю, Джейд?
«Смирительная рубашка» – это, конечно протослэшер 1964 года, вышедший после «Психо», но в немалой степени заложивший основу для «Психо 2», вышедшего почти двадцать лет спустя. Спасибо, Роберт Блох.
Шарона ошибалась в том, что касается смирительных рубашек. В смирительной рубашке ты можешь дышать. По собственному опыту знаю. Ты не сможешь вскрыть себе вены на берегу озера с помощью единственных инструментов, какие у тебя остались, – собственных ногтей и зубов.
А где ты не можешь дышать?
В полиэтиленовом мешке для покойников.
Когда Пруфрок и все, что я сделала и не сделала, хотя и должна была бы сделать, будь я поумнее, получше, посноровистее и поголосистее, обрушивается на меня и когда воздух заканчивается, то в одно мгновение материализуется палец-нож, нечеткий и реальный за полупрозрачным полиэтиленом, в котором я завернута, он материализуется, а потом проходится по мешку маленькой металлической открывашкой, словно бегунком застежки-молнии, и освобождает меня.
Извини, Шарона.
Единственный говеный инструмент, который ты мне дала, чтобы расстегивать эту застежку изнутри, – это писать письма кому-то, кого я уважаю, за кого переживаю, кто может протянуть и непременно протянет мне руку помощи, чтобы я могла выпутаться из этой ситуации.
И это всего лишь напоминание о том, что все, кого я люблю, мертвы, спасибо.
Шериф Харди. Мистер Холмс. Стрелковые Очки.
Не знаю, входит ли в эту группу моя мать или нет.
Отец не входит – я это точно знаю.
Памела Вурхиз – вот кому я должна написать, верно? Или, может быть, Эллен Рипли. Поместить ее в темный коридор вроде этого в моей голове, и она будет запирать и загружать, называть свои нервы сукой и говорить им, чтобы они отвязались от нее.
Но я не Рипли.
Вместо запирания и загрузки я после начала семестра уже в тысячный раз делаю вот что: спотыкаюсь на этих дурацких каблуках, отчего меня уводит влево, и я ударяюсь плечом в шкафчик.
И это как раз, когда ты стала думать, что ходить, как ходят взрослые, безопасно.
Очистите берега, мэр, Джейд возвращается.
Господи Иисусе.
Лета правильно про меня говорит: я постоянно прячусь в видеомагазине, ношу на себе все свои фильмы, как броню. И неважно, что пруфрокский видеомагазин вот уже три года как закрыт, он остается мемориалом для всех ребят, с которых там содрали кожу, они, вероятно, до сих пор туда заглядывают.
Но это все равно что иметь один экран.
Не останавливайся, Джейд, не останавливайся.
Но на одном из других экранов две бессонные ночи, в выходные тринадцатого числа, когда Пруфрок впал в панику в связи с исчезновением Йена Йэнссона. Потом прошел слух, что его отец, который к тому времени уже где-то скрылся, днем ранее арендовал красный «Мустанг» с откидным верхом. Машина достаточно быстрая, чтобы вернуться из Невады или другого штата, где он скрывался, и достаточно привлекательная, чтобы его единственный сын купился на «прокатиться». И потому со всех окон банка, «Дотса», аптеки объявления о розыске были сняты, и известный бывший заключенный женского пола смог, наконец, снова уснуть.
«Его найдут», – все убеждали себя. Он с отцом отправился в маленькое путешествие – верх у машины опущен, ветер треплет волосы, они не пропускают ни одного заведения с обслуживанием в машине.
Либо так, либо он стал предметом торга в набирающем обороты бракоразводном процессе.
Но главное, никаких угроз не поступало. Никаких прячущихся теней, никакого тяжелого дыхания, никаких пьяных личностей, внезапно появляющихся в дверях в два часа в самый разгар распоганой ночи.
Я выпрямляюсь, отлепляясь от шкафчика, в который врезалась, – кажется, когда-то это был шкафчик Ли Скэнлона, – быстро моргаю, словно пытаюсь вернуть свет в этот коридор, но… о’кей, теперь серьезно: где все, черт вас раздери?
Сегодня понедельник, не пятница, значит, никаких футбольных сборищ. Никто не включал пожарной тревоги. Сегодня не свободный день для выпускников, и Баннер не устанавливал никакого комендантского часа ради безопасности всех – для этого нет никаких оснований. Призрачное Лицо не кромсает и не режет. Синнамон Бейкер больше здесь не живет. Тут нет никаких снежных бурь, которые случаются раз в столетие: была одна, больше нет и не будет следующие девяносто шесть лет, спасибо.
Может быть, упражнения по стрельбе? Мы на высоте восемь тысяч футов в горах, а это значит, что оружие есть у всех, но… нет.
В Пруфроке много чего не так, но не настолько же.
Пока что.
Может быть, уже начался седьмой урок? И поэтому опустели все коридоры? Все ринулись в свои классы, чтобы занять место получше, потому что они так и горят желанием учиться?
Мечтай и дальше, девушка-слэшер.
Флуоресцентная трубка мигает в потолке впереди на расстоянии человеческого тела, а потом снова проливает неустойчивый свет. Тут дело не в нехватке денег – Лета субсидирует целый район, если бы захотела, могла бы начертать свою фамилию на входных дверях.