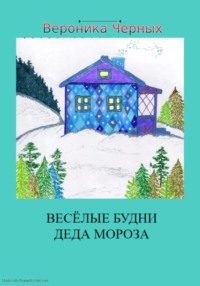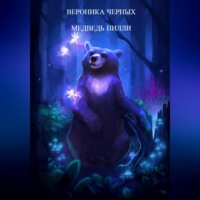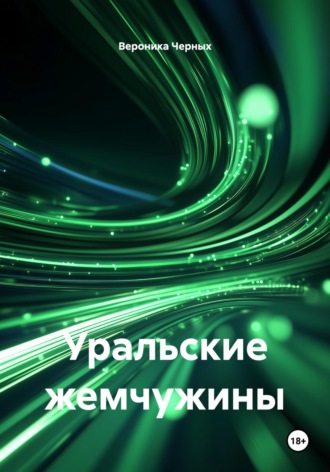
Полная версия
Уральские жемчужины
«По вере вашей да будет вам».
А что же наш путь в Тарасково? Вот подъехали к Первоуральску. Мне казалось, что это старый заводской посёлок постройки советских времён. Но с посёлка он просто начинается, а дальше буднично перерастает в обыкновенный многоэтажный город с рекой посередине.
Вскоре мы проехали старинную деревню Билимбей и… заблудились. Наш шофёр, который уже несколько лет возит паломников по святым местам Урала, здесь впервые, и в какую из улочек сворачивать, чтобы попасть в Тарасково, не знал. Пришлось возвращаться с полдороги, искать в Билимбее сворот на Тарасково. Нашли, свернули и благополучно через полчасика добрались до цели нашего путешествия.
Краснокирпичный Свято-Троицкий храм стоит в низине между деревенскими избами и ручьём. Пасмурно. Холодно. Вьются из труб столбики дыма. Подворье монастыря совсем небольшое. Кроме храма и часовенки здесь стоят два одноэтажных деревянных братских корпуса и купальня.
Мы успели к исповеди и причастию, и тот из нас, кто готовился к принятию Святых Христовых Таин, подходит к священнику, крестообразно сложив на груди руки. А потом мы все заказываем требы – поминовение о здравии живых и упокоении мёртвых. Здесь это дешевле, чем во многих местах, и паломники стараются по максимуму использовать такой случай.
В часовне мы набираем воду в запасённые бутылки, а затем уносим в автобус, терпеливо дожидающийся нас за оградой монастыря. Кто-то отправился в купальню умываться и обливаться святой водой, кто-то решил отдохнуть и пообедать. В ноябре я не решилась даже умыться, посчитала, что слишком уж холодно на дворе; вот если бы летом! Тогда и облиться можно. Так и просидела вместе с мужем в автобусе, ожидая тех, кто ушёл в купальню. Лишь в третьем часу мы отправились дальше – в Слободу Каурову.
Каменный храм построен более трёхсот лет назад и не закрывался ни на один день даже в чёрные годины. Он стоит в селе, расположенном в живописнейшем месте: полноводная река разрезает землю надвое подковой и уходит в леса в том же направлении, откуда пришла. Получившийся полуостров, соединённый с «материком» лишь узким, в полтора шага шириной, подвесным мостом на старых подгнивших опорах, – очень крут. Резкие выступы серой каменной породы обрываются прямо в воду. А на самом высоком месте, освящая серебристыми куполами старые сибирские двухэтажные дома, высится большой кремовый храм с устремлённой в пасмурное небо колокольней. Ограда церкви словно вырастает из обрыва; есть местечко для своеобразного «балкончика» со скамеечкой, где можно сидеть и любоваться ширью родной земли; справа от него – лесенка вниз, к реке. До воды – метра три-четыре. Высоко.
Открываем толстую, потемневшую от времени дверь и заходим в храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Своды – до небес. Отовсюду смотрят на нас лики Господа, Пресвятой Богородицы, святых угодников. Фрески на стенах и потолке, старинные иконы византийского письма «Скоропослушница», «Иерусалимская», «Знамение», святых преподобных Серафима Саровского, Сергия Радонежского так выразительны, что хочется опуститься на колени и вознести горячую молитву…
На одной иконе – святителя Николая Мир Ликийских чудотворца и святой царицы Александры – увидела удивительную надпись, мимо которой не смогла пройти: «В ознаменование священного коронования их Императорских Величеств Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Феодоровны в 1896 году от служащих уткинского Графа Сергея Александровича, Строганова завода». Вспоминаю об этом сейчас, когда пишу, а в душе – радость свидания со святыней…
Фотоаппарат мой в Слободе сломался, и я не сделала ни одного кадра прекрасного храма. Уже тёмным вечером мы отъезжаем от сельской площади, чтобы отправиться домой. Когда теперь сподобит Господь вернуться сюда? Наверное, только летом, – обещает мне муж с сомнением в голосе. Но случилось гораздо раньше – всего через месяц.
В начале декабря в наш приход пришло письмо, где передавалось приглашение иеромонаха Алексия приехать в Тарасково снова. Он говорил: «Передавайте жителям Озёрска и Снежинска, пусть приедут ещё, мы их ждём. У нас появилась новая святыня – Покровец. Это ткань, расшитая особым образом и кажется бархатной. Служила ткань для покровения священных сосудов дискоса и потира. Сделан Покровец в Соловецком лагере заключёнными верующими. Его держали в руках священномученики отец Евгений (Зернов) и отец Илларион (Троицкий), а также другие новомученики. Покрывали им Святые Дары на Литургии. Нужно вашим верующим ещё раз исповедаться и причаститься, прикоснуться к нашим святыням, а мы помолимся здесь о прощении их грехов».
За два дня собрались наши прихожане в паломничество, и вот мы снова в знакомых местах. Свято-Троицкий храм встретил нас пустотой. Оказывается, служба идёт в часовне. Она очень маленькая, но мы теснимся, теснимся, и входим все пятьдесят человек. Многие готовились к причастию, и иеромонах Алексий исповедует нас, а потом причащает. Погода опять пасмурная, но на душе солнце.
После Литургии монахи идут в храм и служат молебен об усопших, затем рассказывают нам о случаях исцеления верующих от болезней, об истории обители, выносят из алтаря святые мощи, о которых писал настоятель. Когда начинают читать Акафист Пресвятой Богородицы «Всецарица», я ухожу в часовню. Вместе с одной паломницей я набираю ледяную воду в вёдра и иду в купальню. Я знаю, что будет очень холодно, что могу простудиться, но почему-то сегодня меня это абсолютно не волнует. Я верю, что ничего плохого со мной не может случиться: милость, и любовь Божией Матери со мною.
Мы заходим в купальню. Внутри лишь скамейка у стены, пара дощечек посреди пола да два гвоздя в стене, чтобы вешать одежду. Мы по очереди раздеваемся донага. Почему-то мне не хочется лишь умыть лицо и поплескать воду на волосы. Я хочу облиться вся. Холодно. Голые ноги скользят по обледеневшему полу. Я встаю на брошенную вниз тряпку и беру белое ведро. Вначале погружаю руки, потом отираю водой лицо и голени, а затем в три броска выливаю на себя воду: «Во имя Отца! Аминь!», «И Сына! Аминь!», «И Святаго Духа! Аминь!» и кричу, кричу от счастья! Морозная вода обжигает, и через несколько секунд согревает, словно я в тёплой натопленной избе. Мокрая с ног до головы, я уже не ощущаю холода. Неторопливо одеваюсь. И чувствую, что не прочь бы ещё оказаться под водопадом святой воды – но когда-нибудь после, не сейчас. Ни испуга, ни страха, ни разочарования – одна радость и умиротворённый свет в сердце…
Меня не покидало ощущение, что главное своё дело я сделала. И улыбалась, вспоминая, как во время вынужденной остановки за городом нашего автобуса я хотела повернуть назад, домой, в привычную квартиру, к гипнотизёру-телевизору. Какая я глупая!
В автобусе, перекусив, я крепко засыпаю на плече мужа. А в два часа автобус едет по знакомой дороге в Слободу. Не даром буквально два дня назад мне отремонтировали фотоаппарат, сломавшийся при первой поездке! Мы долетаем до Слободы, и фотоаппарат щёлкает кадры. Жаль, что уже темнеет. Стены храма сливаются с небесами. Мы читаем Акафист Божией Матери «Скоропослушница», заказываем требы, просто сидим в первозданном просторе среди намоленных веками святых ликов, а потом прощаемся и уезжаем, поражённые напоследок ещё одним чудом, явленным Господом нашим Иисусом Христом: недавно в храме великомученика Георгия Победоносца замироточила икона…
ВЕРХОТУРЬЕ
На высоком берегу реки Туры стоит небольшой Свято-Симеоновский храм. Молочно-белые стены, сияющие купола, внутри – красно-золотой иконостас, чёрно-мраморные полы и святой источник прямо под храмом. В 1692 году здесь стал восходить от земли и появился поверх могилы гроб уральского праведника Симеона Верхотурского, скончавшегося полвека назад, а вскоре забил родник с чистейшей водой. На этом месте построили часовенку, а затем и храм. На всю Россию прославилось село Меркушино Свердловской области. 12 сентября 1704 года нетленные мощи святого были перенесены в городок Верхотурье.
Благодаря многочисленности чудесных исцелений, молва об угоднике Божием распространилась далеко за пределами города. Богомольцы со всей Руси стекались в Николаевский монастырь. После революции церковь в Меркушино была разрушена, и только в девяностых годах ХХ века храмовый комплекс села начал восстанавливаться.
Кто-то из нашей группы паломников здесь впервые. Кто-то бывал прежде, добираясь своим ходом, нередко сложным и долгим, и в мороз, и в зной, чтобы поклониться святым местам.
Наша поездка, занявшая два июньских выходных, состоялась благодаря инициативе горожанки, которая обратилась в администрацию с письменным предложением организовать паломничество снежинцев по святым местам Урала. Советником заместителя главы администрации по социальным вопросам и начальником отдела культуры Снежинска была организована первая группа паломников в Верхотурье и Меркушино.
Поклониться святому праведному Симеону, Верхотурскому чудотворцу, рано утром в июньскую Родительскую субботу отправились девятнадцать человек. Мы едем. Дождь провожает нас. А может, встречает? Мелькают придорожные поля, леса, пригорки, речки и озёрные берега, деревушки, екатеринбургские окраины, нижнетагильские мостовые… Объезд, обход, не та дорога. Наконец – поворот на Верхотурье. Снимок на память – как без него? Дождь злорадствует, оседая мокрой пылью на наши головы и плечи. Снова в автобус. Ну, уже немного осталось.
Впереди открывается богатый деревенскими домами, палисадниками и мостами простор. Белые стены Верхотурского Николаевского первоклассного общежительного мужского монастыря Екатеринбургской епархии, золото куполов светятся даже под тучами свинцового неба. Красота храмов не тускнеет и в пасмурной серости.
А нас тут же окружают дети, одетые в обноски. «Дайте на хлебушек», – привычно тянут они, цепляются, ждут, не отходят. Но денег давать нельзя – неизвестно, на что они пойдут. Поэтому даю конфетки. Берут и недоумённо морщатся. А дашь хлеб – выбросят. Трое нищих сидят у врат Верхотурского Николаевского первоклассного общежительного мужского монастыря Екатеринбургской епархии. Лица испитые и жалобные. В глазах ничего нет, только краснота и похмельные слёзы. Но, может, это только кажется – похмельные? Может, сами они выкарабкаться не могут, а помочь им – гнушаются? Ведь теперь в России гнушаются нищих. Прежде их привечали, поили, кормили, милостыню давали – чтоб помолился о милосердствующих. Но то была Святая Русь, а теперь – СНГ.
Во внутреннем дворе – слякоть, развороченная мостовая, храм в лесах, нетронутые реставраторами монастырские здания. Группы экскурсантов сменяют одна другую. А мы заходим в Крестовоздвиженский собор. Нам не хочется говорить – только смотреть. Огромное пространство, белый мрамор, новописанные лики святых. На главном куполе старинная роспись: распятый Спаситель в окружении тонких золотых крестов. Храм украшен зелёными берёзками, только что принесёнными из леса: завтра – День Святой Троицы.
Влажность воздуха оседает и на белые монастырские стены, и на золото куполов. Вовсю идут реставрационные работы: после революции многое было взорвано и осквернено. Крестовоздвиженский собор, самый большой на Урале, – в строительных лесах, внутри – белый мрамор, немногочисленные иконы, золото алтаря. На главном куполе – Распятие. Пару лет назад купол начали белить, и вдруг на стене стал проступать лик Спасителя, а вокруг него – золотые кресты. Приехал Екатеринбургский архиепископ, увидел и запретил реставрацию купола. А распятый Иисус Христос всё яснее стал проявляться на куполе, и кресты – всё ярче светиться …
Вокруг зданий по глинистым мокрым дорожкам бродят группы экскурсантов. На многих женщинах брюки или юбки с разрезами до бедра, а на лицах – вежливая скука. Гид, остановив подопечных у лестницы, учит их, как вести себя в храме и как креститься. Странно, а если они некрещёные? – подумалось мне. Возле икон вместо молящихся – полузабытые картинки экскурсий, как слепки советских времён. Нелепо смотрятся они в величественном храме.
В четыре часа открылись двери белого Николаевского храма, и паломники вошли поклониться святым нетленным мощам Симеона Верхотурского. Рака стоит справа на возвышении. Люди подходят по одному, целуют прозрачное стекло, молят праведника о наболевшем. Священник специально для нашей маленькой группы, оставшейся на несколько минут после всех, открывает раку. Неизъяснимый аромат напояет воздух. И мы выходим с благодатью в душе.
Выглянуло солнце. До отъезда успели погулять по берегу реки вдоль монастырской стены, увидеть громадный деревянный терем цесаревича. Бревенчатые стены, тёмные от времени, толстые перила, отглаженные тысячами рук, высокие ступени, вытертые тысячами ног, – всё это поражает своей добротностью «на века» и памятью о давно ушедших в небытие хозяевах. Теперь в тереме краеведческий музей. В побеленных комнатах витрины с экспозициями. В одной из них сохранилась-таки старинная изразцовая печь.
На другом краю Верхотурья – женский монастырь, а между ними – прекрасный собор, венчающий весь архитектурный ансамбль. Весь город – сплошь деревенские избы – являет собой центр духовности раскинувшегося поселения уральцев.
Снова по дороге вдаль, в поисках света и чистоты, а главное, – истины. Шестьдесят пять километров по равнине и по пригоркам – и мы видим Поклонный крест (на этом месте на берегу Туры ловил рыбу Симеон Верхотурский, добывая себе пропитание; здесь, на гладком камне, вросшем в берег, он молился Богу). Мы не останавливаемся – стремимся дальше, к тому ясному отблеску, что уже видится вдали, вдыхаем красоту. Равнинные просторы необычны для того, кто всю жизнь прожил среди гор.
Вот мы и в Меркушино, где находится подворье Ново-Тихвинского женского монастыря. Долгожданное тепло солнца, свежесть высыхающих после дождя полей и близкой реки Туры. Тишина и удивительная красота вокруг Свято-Симеоновского храма дарят душе покой и благодатную радость…
Перебираемся по мосту через коричневую реку, на поверхности которой завиваются кружева быстрого течения. И едем по единственной, но зато широкой и асфальтированной, улице Меркушино. Добротные новые постройки соседствуют с покинутыми домами. Вокруг краснокирпичного здания женской обители – чёрные ажурные решётки, во дворе разбиты цветочные клумбы.
В другом красном тереме – странноприимный дом (гостиница для паломников). Двухэтажное здание – одно из немногих сохранившихся после революции; оно восстановлено и отремонтировано совсем недавно. В нём светло, чисто и по-домашнему уютно. Удобные комнаты, в них – жёсткие двухъярусные кровати с чистым бельём, в маленьком холле – диван и кресла, на столике разложены книжки из монастырской библиотеки, на стенах – иконы. Хочешь – посиди, отдохни, хочешь – вычитывай молитвенное правило. На первом этаже – трапезная, светлая от множества окошек. Послушницы разносят постную еду. Вкусно.
Десять монахинь работают, не покладая рук, ухаживают за храмом, занимаются с сельскими ребятишками, молятся, готовят к изданию духовные книги. Прямо за колокольней – два крана, штабеля красных кирпичей. Даже в выходные не прекращается строительство колокольни.
Бросаем сумки и спешим в Свято-Симеоновский храм. Он стоит на высоком берегу Туры, прямо над гробницей праведника Симеона Верхотурского, где истекает родниковый источник. С 1996 года в селе постоянно проживают сёстры Екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря.
Сам монастырь был учреждён в 1809 году императором Александром I. В нём работали 18 мастерских: прядильная, ткацкая, швейная, свечная, золотошвейная, финифтяная, живописная, иконописная, фотография, оранжерея и другие. Изделия монахинь пользовались небывалым спросом на Тихвинских и Ирбитских ярмарках. Быт простых екатеринбуржцев украшали стёганые одеяла, расшитые цветами, расписной фарфор, цветы из воска…
До 1888 года в монастыре помещался епархиальный свечной завод, больница, детский приют, ему принадлежали две заимки с храмами, пахотные и покосные земли. К 1917 году в нём проживало около тысячи насельниц. В 1918 году сёстры монастыря передавали продукты в Ипатьевский дом для пребывавшей в заточении Царской Семьи. Через два года обитель была закрыта; в её стенах разместились военные учреждения. И только семь лет назад монастырь родился заново.
Особо почитаемая святыня монастыря – это Тихвинская икона Божией Матери, которая находится в соборе святого Александра Невского в Екатеринбурге. Своим духовным учителем монашествующие Ново-Тихвинской обители считают святителя Игнатия Брянчанинова.
А в XVII веке в Меркушино провёл свою недолгую жизнь в подвигах поста и молитвы святой праведник Симеон Верхотурский; здесь же были явлены его чудотворные мощи, перенесённые верующими в Верхотурье в 1704 году. Крестный ход сопровождал, передвигаясь всю дорогу ползком на коленях, местный юродивый Косьма. Уставая, он взывал, обращаясь к праведному Симеону: «Брате Симеоне, давай отдохнём!» И тогда гроб с мощами сам собой останавливался. На местах остановок позже были выстроены церкви и часовни, которые, конечно, не смогли выстоять в борьбе с вандализмом. Но вот уже потихоньку восстанавливается один из таких храмов в селе Костылево, а на месте, где, по преданию, святой удил рыбу и молился Богу, воздвигнут памятный крест. Восстанавливается часовня в честь святого Симеона, которая стояла на этом месте до революции.
Выступило из-за туч солнце, осветило маленький восьмиугольный храм с золотыми маковками, длинную башню колокольни. Справа – крутой обрыв со следами каменной кладки. На самом краю примостилась взрослая пышная берёза. Вдали – река, мостик, лодка. На другом берегу нахохлились тёмные бревенчатые усадьбы, на первый взгляд – жилые; только позже понимаешь, что они давно покинуты людьми.
Внутри храма молятся несколько монахинь и паломников. Идёт богослужение. Что здесь необычного, так это огороженный решёткой спуск под храм. Что там такое? После службы нам рассказывают о житии праведного Симеона и ведут нас по мраморным ступеням вниз.
Посреди маленького белостенного подвала находится прямоугольное возвышение, закрытое деревянным настилом. В отверстие видна прозрачная вода. Нам наливают этой воды, и мы по очереди пьём. Она холодная и вкусная. На стене – иконы. Горит лампада. Здесь – место упокоения святого Симеона Верхотурского. Здесь сёстры читают акафист праведнику и молятся.
Мы слышим рассказ, как после перенесения мощей в Верхотурье в 1704 году на месте выхода из земли гроба праведника была выстроена деревянная часовенка. В 1808 году верхотурский житель Феодор Курбатов построил на её месте каменную, с железной кровлей. Сверху был водружён святой крест, а в самой часовне, в восточной стороне, устроен иконостас. Из могилы святого угодника до сих пор истекает источник. Набранная богомольцами в сосуды вода из него годами хранит свежесть и чистоту…
В одиннадцать часов вечера сестра Наталья гасит в комнатах свет, и мы проваливаемся в сон – столько прожито в эти несколько часов, что невозможно это даже осмыслить, и потому лучше сразу заснуть. Ночь пролетела, и день Святой Троицы встречает нас погожим утром. С востока надвигается дождевая туча, а на западе сияют открытые небеса. Заморосил слепой дождь, а рядом, прямо рукой подать высветилась яркая радуга, за ней – вторая, сверху – отблески третьей. Зазвонили колокола. В село на машинах и автобусах съезжаются на праздник верующие. Много молодёжи и детей.
Началась Литургия. На ней забываешь обо всём и отрешаешься от суетных проблем. И веришь, что Бог милосерд, что Он не оставит тебя погибнуть от грехов… Некоторые из снежинцев сегодня впервые в жизни исповедуются и причащаются. Молодые священники серьёзны и вдохновенны…
В 1919 году части Красной Армии заняли Свято-Николаевский мужской монастырь и закрыли в нём все храмы, кроме Крестовоздвиженского, где находились мощи святого Симеона Верхотурского. Вместо крестов на куполах взвились кровавые флаги.
25 сентября 1920 года, в день памяти уральского праведника, власти решили провести вскрытие его святых мощей. 15 тысяч человек собралось в монастыре на Божественную литургию. Власти требовали сократить длинное богослужение и начать вскрытие мощей. Им отказали. Тогда вооружённые красноармейцы силой пробились к раке с мощами и с большим трудом вынесли гроб на паперть и установили на столе. Две шеренги солдат сдерживали напирающую толпу.
Вскрытие начал архимандрит Ксенофонт. Он снял покров с мощей, но продолжать категорически отказался. Тогда председатель Екатеринбургской ЧК Тунгусков подошёл к гробу, опустил туда руку, вынул голову праведного Симеона и высоко поднял её, чтобы всем было видно. По толпе пронёсся вздох. Так началось надругательство над мощами Верхотурского чудотворца. Его святые мощи были расчленены, вынуты частями и разложены на столе. Гроб перевернули, и из него на стол повалил лебяжий пух. Верующие, плача и крестясь, проходили мимо и успевали потихоньку ухватить со стола белую пушинку.
Тишина угнетала своей скорбью. И тут монастырский архидиакон Вениамин во всеуслышание заявил: «А мы верили, и будем верить угоднику Божьему». Его тут же арестовали. Председатель исполкома Ларичев, указывая на плачущих монахов и монахинь, сказал: «Вот эта стая чёрных воронов триста лет обманывала народ». И всё же монахам было разрешено сложить мощи обратно в гроб и поставить его в раку.
На другой день после проповеди, обличающей советскую власть, архимандрит Ксенофонт был расстрелян. Все монахи были арестованы и отправлены в лагеря. Единственный, кто остался в живых и вернулся из ссылки, – иеромонах Игнатий, принявший перед смертью в 60-е годы схиму с именем Иоанн.
После закрытия Крестовоздвиженского собора мощи праведного Симеона в 1926 году отправились в Нижне-Тагильский краеведческий музей. Православные христиане протоптали туда широкую дорогу, идя на поклон угоднику. Поэтому вскоре мощи были изъяты из экспозиции и перевезены в Ипатьевский дом в Свердловске, а потом их убрали в запасники краеведческого музея в Зелёной Роще (здание собора Александра Невского). Лишь в дни тысячелетия крещения Руси святые мощи были переданы Свердловской епархии и перенесены в храм Всемилостивого Спаса. А 24 сентября 1992 года мощи святого праведного Симеона возвратились в Верхотурский Николаевский монастырь. Паломники едут сюда со всех концов России…
Заканчивается праздник Святой Троицы, и мы, отобедав, тут же собираемся домой.
Я спешу в автобус, а на языке вертится последний вопрос, который я задаю тоненькой немолодой женщине со светлыми глазами, одетой в монашеское одеяние, которая стоит возле притихшего храма:
«Как Вы живёте?»
«Трудно, но благодатно», – отвечает она и, перекрестившись, идёт в храм.
В два часа автобус трогается в путь. Мы уезжаем с пожеланиями доброго пути и возвращения сюда, в Меркушино, чтобы вновь прикоснуться к христианской святыне… Дорога обратно показалась мне короткой, хотя это были те же восемь часов. Трудно было ехать туда, легко – обратно. Правду сказала монахиня: трудно жить по заповедям Божиим, трудно… Но благодатно!
ПРОГУЛКИ ПО СНЕЖИНСКУ
Мы с мужем родились в закрытом городке на Урале. Здесь мы выросли, сюда вернулись после того, как получили образование. Здесь работаем. Здесь полюбили друг друга, поженились, вырастили сына.
Красивое имя у нашего города. А история у него интересная.
КАК ВСЁ НАЧАЛОСЬ
Наш город мал, да удал. Он возник на берегу озера Синара в 1957 году не просто так. Не просто так сюда приехали со всех концов СССР (Союза Советских Социалистических Республик, как в прошлом веке называлась наша страна Россия) из лучших институтов лучшие выпускники высших и профессионально-технических учебных заведений – умные, толковые, с золотыми руками.
Как всё началось? 31 июля 1954 года вышел государственный приказ о создании научно-исследовательского института с номером 1011 (коротко – НИИ-1011). Задача нового НИИ была очень важна: вооружить нашу страну самым мощным в мире оружием – атомной бомбой, ядерных зарядов и боеприпасов. Зачем это было нужно? Чтобы защитить страну от внешних врагов на Западе. Их у нас всегда было много, и они на протяжении всей истории России стремились и стремятся до сих пор её захватить.
Итак, дата рождения нашего РФЯЦ-ВНИИТФ, то есть, Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Евгения Николаевича Забабахина, – 31 июля 1954 года. А дата рождения города Снежинска – 23 мая 1957 года.
На протяжении своей жизни наша малая родина называлась по-разному.
С 1957 по 1959 год нас именовали по имени соседнего городка – Касли-2.
23 мая 1957 года нам присвоили красивое имя Снежинск, но до декабря 1993 года оно было для всех секретным, даже для горожан.
А так с июля 1959 по декабрь 1966-го мы – Челябинск-50, с 1967 по тот же декабрь 1993-го – Челябинск-70, неофициально – «семидесятка».