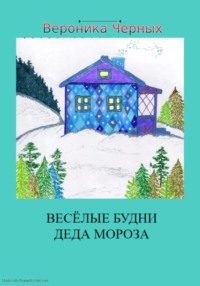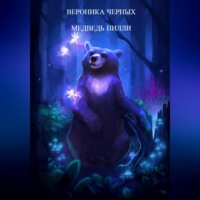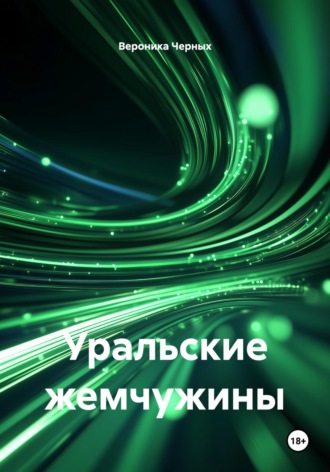
Полная версия
Уральские жемчужины
Спины Каменных Палаток покрыты лишайниками, словно второй кожей. В овражках – заросли малины, карликовые берёзки. На самую мощную скалу можно с лёгкостью забраться и сфотографироваться на ней. Отсюда видны синие хребты Вишнёвых гор, укутанные могучими тучами. На плоском камне – гранитный волан, словно ветром поднят край юбки. Кстати, ветер тут злой. Он снимает тебя со скал и пытается сбросить вниз. Фотоаппарат прыгает в руках, и я понимаю, что вряд ли что получится их моих снимков…
Хотя это к лучшему, поскольку и здесь поработала варварская рука человека. Кичливые надписи намазаны краской, выдолблены молотком, процарапаны топором. Между загадочных монолитов приютились беспардонные «туристы» со своими яркими палатками, котелками и, естественно, мусором. Мусора здесь достаточно. Для того, чтобы фотографировать, сначала надо расчистить место, чтобы в кадр не попала пивная банка, пластиковая бутылка, пакет или пачка из-под сигарет. Ну, не могут без этого просвещённые люди XXI века! Это же круто – пнуть банку в скалу и послушать, как она сбрякает! Или намалевать своё имя на камне, когда-то знавшем руку художника каменного века. Прикольно же!..
Холодает. Иголки дождинок падают на лицо и руки, на линзы «Зенита». В последний раз окидываем взором прозрачную древнюю красоту, вздыхаем над её осквернением и садимся в бежевый «Жигулёнок». Обратно решаем ехать по другой дороге: вдоль Аллаков к Кисегачу, а там – на Каслинский тракт и домой. Но просёлочные дороги – это ужас водителя. Машина медленно шуршит по песку, в метре от кромки чистого озера с разноцветной галькой, затем чуть не утопает, пытаясь пересечь узкий искусственный водоканал, потом плутает по грязи и перелескам, стремясь к виднеющимся близко-близко Вишнёвым горам, и, наконец, задев бортом деревеньку Кисегач, выбирается на асфальт. Ну, здесь уж всё знакомо. Дождь рвётся вниз и застилает стёкла.
СЕЛО БУЛЗИ
После полудня застенчиво выглянуло солнышко. Спряталось. Снова выглянуло. Что ж, если желаешь, давай поиграем в прятки. Только не здесь, не в городе, а в тех ближних краях, где всё так незнакомо и потому пленительно.
Мы собрались было снова повидать Каменные Палатки, чтобы узреть их в бликах солнечного богатства, но, шурша колёсами по Свердловскому тракту, внезапно решили свернуть не направо, а налево, на Булзи.
Что такое Булзи? Ну, название странное. Ну, село, мимо которого когда-то мы ездили по «заданию института» помогать колхозникам собирать картофельный урожай. Что там могло измениться за десять лет? Действительно, ничего. Правда, дорога стала хороша – ровная, как за рубежом, ехать просто приятно. Вспомнили наши городские дороги – взгрустнулось. Сколь годов ни прошло, а всё колдобины считаем…
Деревня раньше называлась ещё страннее: Болза, и впервые была упомянута в переписи Уфимского уезда Сибирской губернии 1748 года. Её первые жители, мещеряки, поселились в этих местах, на берегах хлопотливой речушки Синары, в 1744 году. И были эти земли арендованы у башкир. По легенде, село возникло на месте стойбища татарина Булза, сосланного из Казани за воровство. Крестьяне занимались своим исконным делом – хлебопашеством. Синара разделяла село на две части: правобережная сторона – это сами Булзи. Левобережная – деревня Малые Булзи или Горбуновка – по фамилии помещицы Горбуновой, которая жила в Екатеринбурге. Всеми делами руководил управляющий, который жил в богатом кирпичном доме.
23 июня 1751 года Исетская провинциальная канцелярия (г. Челябинск) разрешила государственным крестьянам из Арамильской слободы Екатеринбургского уезда здесь обосноваться. Арендованные земли при этом превратились в государственную Булзинскую волость. К 1812 году она вместе с селом и деревней Мало-Булзинской присоединилась к соседней Коневской. К 1915 году по переписи в село входили деревни Малые Булзи (Горбуновка), Бушуевка, Иткуль (Ключи), Вольховка, Караболка, Пороховая – всего около семи тысяч человек.
В 1911 году село запылало в страшном пожаре. Работник привёз сухое сено, поставил телегу во дворе и ушёл в избу. Телега была на деревянном ходу, на ось накрутилось сено, и от трения сено воспламенилось. А оси колёс работник не смазал, и они перегрелись. Когда бедолага вышел из избы, сено уже горело. А в сторону Булзей как раз дул сильный ветер. Он и не давал потушить пожар. Тем более, не успели подъехать лошади с бочкой воды. Вот улица Романовка и запылала. Люди едва успевали выскакивать из домов и вынести на улицу скарб. Пожар перебросился на Барабу, где продавали барабинские пряники (ныне улица Октябрьская), и дошёл до нижнего края села. Сгорело почти всё. Уцелели только Горбуновка и центр Булзей. И то лишь потому, что остановился ветер и хлынул дождь. Пришлось отстраиваться заново. Кстати, избы на три окошка с 1912 года существуют до сих пор, и в них живут!
Один из них вообще уникален. Это дом № 41 по Октябрьской. Его хозяин Тимофей Яковлевич Попов во время пожара схватил только деревянный сундучок с деньгами и ушел с ним к озерку и сидел там, пока не стихнет пожар. Затем он построил кирпичный дом, и все «горелки» уложил между стенами. Поставил каменные амбары с подвалами. Дочери построил деревянный дом. Объединил оба дома одним двором, выложил его гранитными плитами. В 1966 году дом отремонтировали. В нём поселилась семья Поповых и живет до сих пор.
В селе в пору его расцвета в XIX веке стояли церковь, волостное управление, две земских школы, кредитное товарищество (земельный банк), библиотека очень ценных книг при церкви, две водяных мельницы, пять кузниц, синильное (покрасочное) производство, две торговых лавки, опытный сельскохозяйственный участок от Ново-Тихвинского женского монастыря. А заимка купца Кулакова впоследствии стала опытно-показательным хозяйством.
После Октябрьского переворота 1917 года начались необратимые изменения. Как и по всей стране, в Булзях создали колхоз, назвали «Новая жизнь». В 1960 году его переименовали в «Победу». Через десять лет организовали совхоз Булзинский с центральной усадьбой в самом селе и пятью отделениями. Производили молоко, выращивали свиней, сеяли зерновые. Двадцать первый век всё разрушил. Предприятий там нет. Есть школа, детский сад «Золотой петушок», дом культуры, фельшерско-акушерский пункт и почта. Пятнадцать улиц. Три переулка.
До Булзи добрались быстренько, и уж хотели свернуть на село Дальний Береговой, как вдруг над крышами деревеньки, расположенной на холмах, показались стены полуразрушенной церкви. Она казалась огромной – словно утонувший величественный корабль, во время отлива явивший взору и своё величие, и свою дряхлость. Правда, дряхлость здесь создана не волей волн, а ненавистью человека.
Улочки аккуратны, ухожены, как и дома. Даже «смертельно больной» Покровский храм, который по традиции возвышается над округой, свободен от мусора и оскверняющих стены надписей. Он по-своему ухожен теми, кто живёт под его сенью сейчас.
Возле окна с уцелевшей узорчатой решёткой, тронутой рыжей ржой, зеленеет громадная лохматая лиственница. Она нисколько не теряется на фоне кирпичных стен, которые тянутся ввысь – тянутся и обрываются недоумённо: ведь вместо куполов – дыры…
Облупившиеся ступени высоки и широки. Три входа: северные, южные ворота и парадные с запада. Чувство благоговения рождается в душе и не покидает её даже при виде этих насильственных разрушений. Мы обходим храм и ступаем под прохладные каменные своды. Я невольно крещусь. Пусть и осквернённое нами, но это – Божие пристанище.
Стены, округлые потолки хранят память о прошлом убранстве. Человеку, знакомому с внутренним устройством храма, легко восстановить картины былой красоты. Стрельчатые окна, высокие колонны, главный купол с остатками фресок, впереди – алтарь. И повсюду – пыль и мелкая галька. И запах прохладных камней. Отсюда как на ладони – речка Синара, богатые дома, зелёные поля и перелески, дороги и небо в облаках и тучах. Какой душевный покой и равновесие дарит этот благословенный край! И как-то не хочется думать о заботах, лишениях, бедах…
Однопрестольный каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы заложен в 1835 году, построена и освящён в мае 1841-го преосвященным Антонием Екатеринбургским. В 1886-1894 годах к нему были пристроены симметричные боковые приделы Сретения Господня и святых равноапостольных царя Константина и матери его Елены. Также была построена новая колокольня. Он возведён в русско-византийском стиле. Примечательно, что храм возведен полностью за счёт прихожан. На богослужения сюда приезжали верующие с окрестных деревень.
А закрыт он в тридцатых годах ХХ века. Иконы уничтожили, расстреляли лик святителя Николая пользовали в качестве зернохранилища и мастерской для сельскохозяйственной техники. Для этого западный вход в храм был расширен для въезда автомобилей. Потом здание вовсе забросили.
Окна были выбиты, пол разобран, крыша снесена… Уцелела крыша колокольни с падающим крестом.
В начале XIX века в Булзях жило около трёхсот человек. Верующим выделили молельный дом.
Мы выходим, когда солнце уже набирает силу. Нас встречает деревенская свадьба. Непонятно, кто жених, кто невеста – все одинаково нарядны и истомлены празднованием этого великого события. С нами тут же обнимаются, целуются, напрашиваются на разговор по душам и предлагают выпить и закусить за здоровье неуловимых молодых. Мы отказываемся от «выпить и закусить» и соглашаемся на «поговорить». Спрашиваем, что за храм, и один из гостей серьёзно отвечает, что Иоанна Предтечи, что он здесь всегда был и будет, и что эта церковь – самая большая в области. А молодой кудрявый блондин вдруг вспоминает, что, если ехать по просёлочной дороге в сторону Клеопино, то можно наткнуться на старый женский монастырь, вернее, скит. Только до него надо ещё с пару километров идти по полям и болотам. А может, его уже и нет.
Прошло долгое время с поры нашего путешествия в этот край. И в 2014 году силами добровольческих отрядов и на пожертвования верующих храм начали восстанавливать. Теперь там проводятся богослужения. Преобразился и паломнический центр в здании бывшей школы. А в 2015 году колокольню храма вновь увенчал купол с золотым крестом. В селе обосновалась женская монашеская община под началом монахини Феодосии – и Ольги Новгородцевой, бывшей пресс-секретаря Пожарной охраны МЧС. Сама она приехала в село в январе 2013 года. Увидела разрушенный храм, бедность сельчан, разрушенные дома. Она составила список друзей детства, юности, университета, пожарной охраны и многих других знакомых людей, стала писать им письма, звонить с просьбой помочь. Откликнулись немногие, ведь времени прошло немало, контакты изменились. Но матушка неожиданно стала получать средства из самых неожиданных источников! Например, как-то проезжал мимо молодой человек, остановился, спросил: «Ой, а что тут, храм восстанавливается? Так это же хорошо!» И достает из кармана крупную сумму денег, отдаёт в руки: «Бог в помощь, матушка!». А ещё владыка Феофан Челябинской епархии посылал сюда целые автобусы паломников. Они помогали и руками, и деньгами. А монахини готовили фронт работы и варили побольше гречневой каши, чтобы накормить трудников. Так и возродили храм.
Близ церкви стоит достаточно необычный памятник трём местным жителям. С провозглашением Советской власти была избрана милиция. Её возглавил Андрей Иванович Гусев. Его поймали колчаковцы и расстреляли на болоте у села Красный Партизан. После этого тело Андрея Ивановича разыскал его отец и похоронил на старом кладбище. Были расстреляны также Филимон Глазырин и солдат Деменьшин. Их останки покоятся в братской могиле под этим памятником.
Надпись на мраморном памятнике гласит: «Мир праху Вашему, Павшим от рук наемных Империалистов. Спите, орлы боевыя, Знамя Коммуны в Ваших руках. Павшим борцам за идею Коммуны сосыалистическаго Интернационала – Деменьшину, Глазырину, Гусеву».
В надписи допущена серьезная орфографическая ошибка – «сосыалистическаго» вместо «социалистического». В августе 1977 года памятник был реставрирован студентами из Челябинска.
В восьми километрах к северу от села Булзи на берегу речки Щербаковка можно увидеть остатки женского монастыря (он относился к Ново-Тихвинскому монастырю Екатеринбурга). Это место обычно называют Свобода. Самое большое впечатление на нас оказывает то, что полуразрушенная церковь находится на поле, вдали от сёл и деревень. Дорога туда грунтовая, по краю пушистых лугов, между строем берёз. Выехали на огромное поле с церковью. Она разрушена. Уцелели стены, часть купола. Но её тоже в XXI веке начинают восстанавливать. От скита остался добротный просторный погреб в стороне от храма. Туда ведут ступеньки. Внутри можно выпрямиться во весь рост и разглядеть аккуратную кирпичную кладку.
Время до вечера ещё есть, и мы возвращаемся в Булзи, пересекаем трассу и сворачиваем на Дальний Береговой. Сквозь него, мимо нескончаемых полей, через берёзовые кущи мы едем и едем, а куда, спрашивается? Не знаем. Тогда пора повернуть.
Решаем полчасика размять ноги и выходим в лес. Куда-то вглубь уводит наезженная дорога. Густо запахло навозом. Деревня рядом! Только где? Через берёзы ничего не видно, только слышен лай, кукареканье, мычание. Но вот мы входим в крапивное поле и, наконец, видим крыши. К сожалению, добраться до них мы так и не смогли: раскисшая грязь грозила с лёгкостью трясины засосать наши кроссовки. Так что на нашу долю досталось лишь обозрение огородов, сараек и пары собак. Что за деревня, что за хозяйство? Этого мы так и не узнали: лампочка, показывающая количество бензина, уже начала тревожно мигать. Ладно, ладно, не мигай, едем домой. На последних каплях дотягиваем до Тюбука и там заправляемся. Уф, вроде бы ничего не делали, и видели-то мало, а уже пять часов прошло, а в них – и солнце, и дожди, и ветер, и тишь, и загадка, и тревога, и благодать.
СЕЛО ТЮТНЯРЫ (КУЗНЕЦКОЕ)
Мы живем среди городских удобств, словно среди благословений: ни дров нам не надо, ни пшеницы, ни сена, пришли с работы – ешь, спи, развлекайся, детей воспитывай. И все же, наверное, не зря мы так любим мультик про Простоквашино – тянет нас в деревенские тенета, ничего не попишешь.
Эта деревня покорила меня не столько пейзажами, сколько дыханием истории, видимой буквально в каждом доме, в каждом деревце…
… На берегу небольшого илистого озерца раскинулась длинная цепь деревенских домов. Это три села: Кузнецкое, Беспалово и Губернское. Им более веков двух. Как было бы интересно побродить по весенним улочкам старины! И однажды я там побродила. Дольше всего – в Кузнецком, которое до сих пор называется самими жителями «Тютнярами».
Что же это за таинственные дома, где в палисадниках то громадная лиственница, то усталая ель, то кряжистый дуб, то огрузлый полысевший тополь? Вот, к примеру, притулилась к прошлогоднему чертополоху чёрная спящая избушка, а перед ней стражем стоит, чуть качается, узловато-толстый старый тополь с осыпавшимися листьями. Гравюра.
Ещё одна: стена из красных кирпичей с двумя заколоченными окнами, палисадничком, а позади которой зияет пустота, едва отмеченная коричневыми стеблями крапивы… Только одна парадная стена и осталась от степенной когда-то добротной усадьбы. Кто здесь жил? Как? Чем зарабатывал на жизнь? Чем увлекался? Какой он был? Простор для воображения и никакой конкретики.
Семиоконный купеческий дом с множеством окон неожиданно потрясает своей «советской» вывеской «Сельсовет». Высокое крыльцо, крепкая дверь, арки, массивное дерево… И чудится: мужик идёт к купцу с мешком зерна, вокруг ребятня голоштанная, женщины румяные в длинных юбках, воробьи и пыль от телег… А теперь тут сельская власть, потомки той ребятни голоштанной.
Рядом – похожий на пряник магазин с полукруглыми окнами и башенками. Закрыт намертво. А я представляю себе, как сюда приходят мужики, рядятся, болтают, сделки заключают, бабы покупки делают, суетятся, семечки лузгают, мать с ребёнком из магазина выходят – оба красивые, одеты неприхотливо, но аккуратно.
Параллелепипед магазина приземист и основателен. Обширный двор зарос травой, на траве одна старая колея… Склады закрыты, окна забиты, ворота на замке. Нет никого, но так и кажется, что на самом деле здесь кипит деловая жизнь поставщиков, приказчиков, рабочих и возниц, просто сегодня выходной.
На другой стороне дороги – аккуратный парк, так же аккуратно огороженный. Это столетнее церковное кладбище. Ни могил, ни крестов – ровная земля. А под ней – останки похороненных здесь когда-то священников, отслуживших свой век в храме Тютняр.
На берегу озера – развалины церкви и школы, окружённые старым садом. От забора остались кирпичные белёные столбы и низкая кирпичная кладка. Дверь в церковь открыта. Сразу – две лестницы на второй этаж. Левая обрушена. Ступени отглажены тысячами ног. Когда-то по ним ходили священники и прихожане.
Хотела ступить на ступеньку – вдруг сверху ребячьи голоса и смех. Словно беспризорностью пахнуло да хулиганьём двадцатых годов прошлого века. Тихонько отошла.
Пахнет экскрементами и пылью. После революции здесь были склады, потом на первом этаже кино крутили – полон зал набивался, а на втором проходили собрания и танцы. Теперь наверху – вскрытые полы: толстенные длинные брёвна, уложенные параллельно друг другу; серые купола и обшарпанные стены в висящих лоскутах краски. А внизу – мрак и тишина среди стен с остатками советских фресок и штукатурной пыли.
Говорят, храм будут восстанавливать. Это замечательно! Снова зазвонят колокола, созывая верующих к Богу.
Развалины одноэтажной школы на холме у озера с севера тонут в бахроме акации, с юга – глядят окнами на широкую поляну и воду. Крыши нет – только стены красного кирпича. У подъезда сохранилась одна ступенька и металлический остов навеса. Если не знаешь, что это школа, легко представить себе купеческое имение, а в нём – важных господ, кустодиевских дам у самовара, занавески в цветочек и прекрасный вид из окон, паркет, печи, жизнь… Когда-то школу подожгли, и вот результат… Здание построили после первой мировой войны пленные австрийцы. Они же возвели одноэтажную амбулаторию, действующую и поныне.
Немного истории. Село Тютняры (ныне Кузнецкое) возникло более двухсот лет назад на берегах озёр Большие и Малые Ирдяги. Марийское название Тютняры произошло от реки Тютнярь («разливающаяся речка»).
По одной устной легенде огромное село Рождественское (в него входили сёла Губернское, Кузнецкое, деревни Беспалова и Смолина) основали крепостные крестьяне, проигранные в карты князем Долгоруковым Никите Демидову, который выслал их на Урал для основания новых заводов. Другая устная история гласит, что 77 семей помещик променял другому за охотничью собаку, и тот переселил их на берега трёх уральских озёр, главное из которых – Увильды – приказал оставить в отдалении, т. к. продавшие ему эти земли кочевники-башкиры считали озеро священным и при продаже поставили условие, чтобы во избежание гнева аллаха и утраты озером чистоты и целебной силы его вод, в них не отражались ни один дом, ни одно строение.
На самом деле, как следует из купчей крепости от 11 марта 1784 года, «село Дмитриевское Тютнярь тож Кузнецкой округи» в составе 1 400 душ было продано Никите Никитичу Демидову князем Михаилом Ивановичем Долгоруким за 46 060 рублей. Кстати, немногим ранее, 10 января 1784 г., уральский заводчик купил у Г. Н. Клеопина за 35 400 рублей «село Вознесенское и деревни Знаменскую, Клеопинскую и Григорьеву» (более 500 душ). Мои родные места…
К началу ХХ века в селе Кузнецкое (Тютняры) проживало более 25 тысяч человек, возвышались четыре церкви, работали девять школ, в выходные дни и праздники собирался огромный базар, проводились двухнедельные ярмарки, на шести улицах стояли добротные дома из потемневшего кондового леса с заборами из камней серого гранита.
В пятидесятые годы ХХ века число жителей сократилось в десять раз, исчезло девять десятых старых строений. О величии села напоминали только немногие остатки каменных стен. А теперь и вовсе…
Но сквозь грязь, разруху, заброшенные дома и парки всё-таки пробивается обаяние прошлого и его сила, заключённая в труде и вере. Поэзия серебряных тополей и озёр… Грустное очарование развалин… Изящные Тютнярские гравюры…
УРАЛ. СВЕРДОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСКОВО И СЛОБОДА КАУРОВА
Ноябрьская поездка началась в половине шестого утра, когда автобус забрал несколько человек из нашего православного прихода с остановки и повёз в темноте неохотно пробуждающегося утра в соседнюю северную область. Засветлело, когда мы проехали Екатеринбург, захватив в нём опытного экскурсовода. Широкая дорога изгибалась между скалами и высоким лесом. Ветер снежинками подметал тёмно-серый асфальт. Чувствовалось, что там, снаружи, неприветливый холод.
Экскурсовод, прижав к губам микрофон, рассказывала нам о тех местах, которые мы сегодня увидим – о Троице-Всецарицинской мужской обители в селе Тарасково близ города Новоуральска Свердловской области и о храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Слободе Кауровой за Первоуральском.
До революции в Екатеринбургской епархии существовало три мужских и девять женских монастырей. Сегодня своё служение несут четыре монастыря в Екатеринбурге, два в Верхотурье, два в Нижнем Тагиле, по одному Каменске-Уральском, Камышлове, Туринске, Краснотуринске, Алапаевске. Шестого октября 2003 года Священный Синод Русской православной церкви благословил открытие четырнадцатого в Екатеринбургской епархии монастыря – Троице-Всецарицинской мужской обители, созданной в конце девятнадцатого века, разрушенной в двадцатом и восстановленной в 1997 году.
Настоятелем обители стал иеромонах Алексий (Малетин). Свято-Троицкий храм села Тарасково с его чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Всецарица» и целебными святыми источниками уже давно стал одним из святых мест Екатеринбургской епархии. Более года в селе существует монашеская община, которая теперь и оформлена в мужской монастырь. В Свято-Троицком храме обители хранятся множество святых мощей – и Николая Чудотворца, и Лазаря Четверодневного, и новомучеников, и других угодников Божиих. В 1998 году по молитвам иеромонаха Алексия в вырытом монахами колодце забил святой родниковый источник. Братия поставила над ледяным чистейшим ключом часовню во имя иконы Божией Матери «Всецарица», которой молился настоятель обители. В часовне отныне два раза в неделю служится акафист Пресвятой Богородице.
Вода в источнике исцелила по вере многих православных паломников. Недавний случай описан в «Православной газете» Екатеринбургской епархии. Беременная на позднем сроке женщина, которой врачи ставили диагноз «разложение плода», стала пить по утрам привезённую из Тарасково воду из источника, читала акафист Божией Матери «Всецарица», мазала себя маслицем, освящённым у этой иконы, и в положенный срок родила здорового младенца!
Удивительных случаев исцеления за небольшое время так много, что в монастыре завели особую книгу, в которой христиане записывают чудесные события, произошедшие с ними по милосердию Пресвятой Богородицы и Господа нашего Иисуса Христа.
«У моей знакомой было обострение гайморита. Она всё сделала, как её раньше учили в больнице, но в этот раз ничего не помогало. А назавтра она собралась к врачу на приём. Я же принесла ей воду из нашего источника. Вечером она промыла нос, вышло много гадости, и всё прошло. Раба Божия Вера, прихожанка Свято-Троицкого храма с. Тарасково».
«Я, раба Божия, грешница Мария, страдала телесным недугом – фиброма матки, и была назначена операция. Хочется поблагодарить Царицу Небесную, именуемую «Всецарица», за Её милость ко мне. Обливалась я водой из Её живоносного источника, пила воду и молилась Ей. По Её благости я получила полное исцеление».
«Согласно свидетельству раба Божьего Владимира, имело место исцеление от воды, взятой из часовни «Всецарицы» девочки, болевшей псориазом, никакие медицинские препараты ей не помогали».
«По устному свидетельству произошло исцеление больной женщины, которая проживает в городе Екатеринбурге. В течение полугода она не могла вставать с кровати. Стала пить водичку, привезённую ей людьми из часовни «Всецарицы» из села Тарасково, после чего произошло чудо исцеления. Позже она сама приехала в село Тарасково к Божией Матери «Всецарица», чтобы засвидетельствовать это лично».
«Я, раба Божия Надежда, прихожанка Свято-Троицкого храма села Тарасково, благодарю Богородицу «Всецарицу» Небесную и Господа нашего Иисуса Христа за великое милосердие, которое появилось на мне грешной и недостойной. Однажды ночью я проснулась от сильной боли в голове и почувствовала болевую точку, жжение в моей голове. Она быстро продвигалась полосой по голове вверх. Меня сразу же осенила мысль, что лопнул кровяной сосуд, сразу одолел страх, что может произойти излияние в мозг и мне конец. Я обратилась за помощью ко Господу и Богородице. Взмолилась: «Господи, не попусти мне умереть без покаяния. Царица Небесная, помоги мне!» Что делать мне? А боль так быстро распространялась, и тут меня осенила мысль помочить святой водой с источника «Всецарицы» Небесной. Я намочила этой святой водичкой платочек и приложила на больное место. Боль в голове, которая так быстро распространялась жгучей полосой, стала утихать и вскоре совсем утихла».