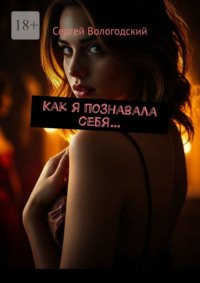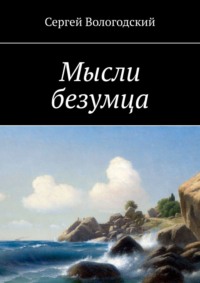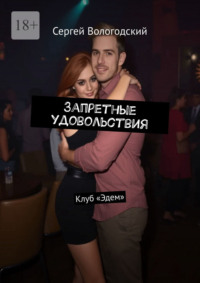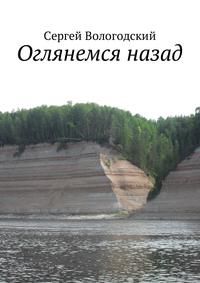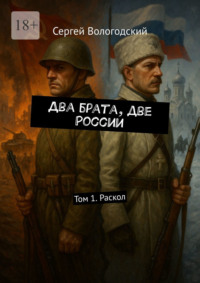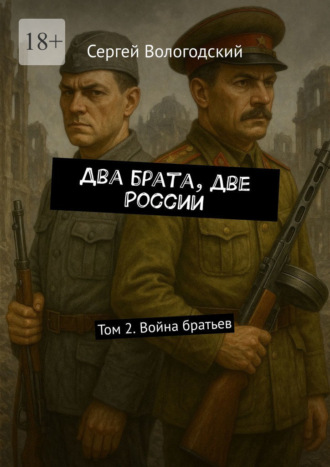
Полная версия
Два брата, две России. Том 2. Война братьев
Полковник перебрался на передовую, в окопы второй роты, которой командовал Фёдор Афанасьевич. Там шёл бой не на жизнь, а на смерть. Немцы уже ворвались в первую линию траншей, завязалась рукопашная.
– Товарищ полковник! – крикнул Смирнов, отбиваясь штыком от наседавших немецких пехотинцев. Его лицо было в крови, форма порвана. – Их полно! Не знаю, сколько продержимся! Командир, уходи отсюда!
Но Иван лично вступил в бой. Он стрелял из автомата ППШ, которым обычно не пользовался, бил прикладом, колол ножом. В нём кипела ярость, холодная и беспощадная. Он видел, как гибнут его солдаты, как рушится оборона, и это приводило его в исступление. Красноармеец Дудкин, раненный в руку, продолжал перезаряжать ПТР, стреляя из укрытия. Его лицо было искажено гримасой боли и отчаяния.
К вечеру 30 сентября, когда стемнело, стало ясно, что полк окружён. Немецкие танковые клинья, действуя на огромной скорости, замкнули «котёл» вокруг частей 13-й и 50-й армий на Брянском фронте. В этом «котле» оказались и остатки 299-й стрелковой дивизии, включая 950-й стрелковый полк. Это был блицкриг, уничтожающий армии в гигантских котлах.
Иван собрал остатки полка – несколько сотен человек, измученных, окровавленных, но не сломленных духом. Среди них был Фёдор Афанасьевич Смирнов, его верный капитан, раненный в ногу, но продолжавший держаться, опираясь на винтовку. Комиссар полка, бледный, но решительный, тоже был с ними.
– Товарищи! – голос Ивана звучал глухо, но его услышали все. – Мы окружены, но не сдадимся. Прорвёмся! На восток! С боем!
Эта ночь была адом. Под покровом темноты остатки полка, двигаясь небольшими группами, пытались прорваться сквозь немецкие заслоны. Они шли лесами, болотами, натыкались на засады, вступали в короткие яростные бои. Повсюду стоял запах сырости, гнили, крови и страха. Многие гибли, попадали в плен. Но они шли. Ими двигала одна цель – вырваться.
Иван вёл свою группу. Рядом с ним хромал Фёдор Афанасьевич, опираясь на винтовку. Они пробирались через немецкие тылы, постоянно вступая в стычки.
– Держись, Фёдор! Не отставай! – говорил Иван, поддерживая его.
– И не подумаю, Ваня! – прохрипел Смирнов. – Чай, вдвоём как-нибудь до Москвы доберёмся!
Красноармеец Дудкин, несмотря на ранение, продолжал нести свой противотанковый гранатомёт. Его лицо было исказилось от усталости, но глаза горели решимостью.
Прорывались несколько суток. От голода сводило желудки, от усталости ноги отказывались слушаться. Спали урывками, в кустах, в ямах. Вода из луж, пища – редкие корешки. Это было похоже на Гражданскую, на тот выход из окружения под Лодзью, когда Иван бежал, спасая свою жизнь. Только теперь масштабы были иными. И противник был куда более страшным и организованным.
Наконец, 7 октября, измученные, грязные, заросшие щетиной, они вышли к своим. К уцелевшим частям 50-й армии, державшим оборону под Белёвом. Из полка в две тысячи человек, который Иван принял в Ельце, вышло чуть больше сотни. Сто человек. Всё, что осталось. Но они вырвались.
Иван стоял перед командиром дивизии бледный и измождённый, но в его глазах горела суровая решимость.
– Полковник Ковалёв! – командир дивизии пожал ему руку. – Молодцы! Вырвались! И людей вывели! Будете представлены к награде!
Иван лишь кивнул. Какая награда? За то, что выжил? За то, что привёл сотню из двух тысяч?
Он снова сидел в землянке, прислонившись к холодной стене. Рядом, тяжело дыша, дремал Фёдор Афанасьевич.
Глава 5. Москва: щит и голод
После выхода из окружения остатки 950-го стрелкового полка, а вместе с ними полковник Иван Ковалёв и капитан Фёдор Афанасьевич Смирнов были направлены в ближний тыл, в окрестности Москвы, в район Подольска. Это был не госпиталь в привычном смысле, а скорее пересыльный пункт и одновременно учебный лагерь для доукомплектования частей, измотанных жестокими боями. Сюда со всех сторон стекались потоки обессиленных, потерянных, но не сломленных бойцов.
Жизнь здесь, в нескольких десятках километров от столицы, была иной. Пронизывающий до костей холодный ветер. Рано выпавший снег уже укрыл землю тонким грязным одеялом. Война ощущалась повсюду, но не грохотом орудий, а своим незримым, давящим присутствием. Здесь не было паники, как на Березине, но воздух был наэлектризован напряжением. Все понимали: враг близко, его дыхание уже чувствуется на окраинах.
Физически Иван полностью восстановился. Тело, привыкшее к лишениям и нагрузкам, быстро пришло в норму, но нетерпение съедало изнутри. Каждый час, проведённый в тылу, казался предательством по отношению к тем, кто сейчас сражается там, на передовой, отдавая жизнь за каждую пядь земли. Наконец его и Фёдора Афанасьевича признали полностью годными к строевой службе.
Иван и Фёдор Афанасьевич жили в тесной землянке, где постоянно топилась печь, распространяя запах дыма и сырости. Каждый день они занимались с вновь прибывшими, обучали новобранцев, превращая их из вчерашних гражданских в солдат. Поток людей был бесконечен: рабочие с эвакуированных заводов, студенты, старики из народного ополчения – все, кто мог держать в руках винтовку.
– Ну что, Фёдор, – говорил Иван, когда вечером, после изнурительных занятий, они сидели у печи, грея руки. – Вроде бы и в тылу, а войны здесь порой больше, чем на передовой.
– Согласен, командир, – хрипло ответил Смирнов, раскуривая самокрутку. – Вся Россия теперь фронт. И тыл, и передок – всё перемешалось. Ничего, научим. А потом погоним фрицев.
По воскресеньям, когда выдавалось несколько свободных часов, они ездили в Москву. Столица жила своей особой, напряжённой жизнью. С каждым днём город всё больше превращался в гигантскую крепость. На улицах, прежде оживлённых, царила непривычная тишина, лишь изредка нарушаемая гудками грузовиков с военными грузами или грохотом трамваев. Большинство магазинов было закрыто, витрины забиты досками. Деревянные щиты и мешки с песком закрывали окна зданий. По улицам сновали военные патрули, их шаги эхом отдавались в опустевших переулках.
Город готовился к обороне. На его окраинах, там, где ещё недавно были дачи и огороды, теперь тянулись противотанковые рвы – их рыли сотни тысяч москвичей: женщины, старики, дети. Лопаты стучали по промёрзлой земле, спины сгибались от непосильного труда, но люди работали безропотно, понимая, что каждая вырытая траншея – это шанс выжить. Иван видел это, и сердце его сжималось от гордости и боли. Он видел их лица – усталые, но полные решимости, их глаза, в которых не было паники, только суровая, непримиримая воля.
– Вот она, Ваня, – тихо говорил Смирнов, глядя на колонну женщин, идущих рыть окопы. – Наша сила. Не танки и самолёты, а вот они. Русские люди.
Иван кивал. Он всё понимал.
Питание было скудным, жизнь в городе – суровой. Москва жила в режиме строжайшей экономии. Хлеб выдавали по карточкам: рабочим – по 600 граммов, служащим и иждивенцам – по 400. Этот хлеб был тёмным, тяжёлым, с примесью жмыха, но он был на вес золота. Очереди за ним, как и за любыми другими продуктами, тянулись бесконечными лентами. Люди часами стояли на морозе, укутавшись в старые пальто и платки. Их лица были бледными и измождёнными, но в глазах светилась надежда на то, что им удастся получить хоть крошечную порцию еды.
– Помню, как в окопах жмыхом питались, – как-то обронил Фёдор Афанасьевич, глядя на хлебные карточки. – А тут, в столице, он уже за деликатес сойдёт.
На рынках можно было достать что-то сверх нормы, но цены были баснословными. Люди продавали последнее: фамильные драгоценности, старинные часы, меха, лишь бы купить картошку, крупу, хоть что-то, что могло спасти от голода. По улицам иногда бродили исхудавшие, бледные дети, их глаза были слишком взрослыми, слишком мудрыми, слишком печальными.
К середине октября, когда немцы уже стояли на подступах к городу, по радио прозвучал приказ №0428: «Ни шагу назад! Москва не сдаётся!» Этот приказ, прозвучавший из каждого репродуктора, стал клятвой, девизом, который запечатлелся в сознании каждого москвича, каждого солдата.
По ночам город погружался в полную темноту – светомаскировка была строжайшей. Небо над Москвой постоянно прорезали лучи прожекторов, выхватывая из темноты силуэты самолётов. Это были немецкие бомбардировщики. Воздушные тревоги стали частью повседневной жизни. Звучали сирены, и москвичи спешили в убежища – на станции метро, в подвалы-бомбоубежища.
Ближе к концу октября, когда дни стали совсем короткими и холодными, Иван и Фёдор Афанасьевич возвращались с курсов повышения квалификации для офицеров, которые проходили в Лефортово. День был пасмурный, моросил мелкий пронизывающий дождь. Они шли пешком от трамвайной остановки по Мясницкой улице в сторону Курского вокзала, откуда должны были отправиться обратно в Подольск.
Внезапно раздался протяжный вой сирен. Воздушная тревога. Улицы тут же опустели, как по команде. Люди, спешившие по своим делам, бросились врассыпную в поисках укрытия.
– Чёрт возьми! – прохрипел Фёдор, поправляя фуражку. – Пошли, Ваня! В метро!
Они бросились к ближайшей станции метро – «Чистые пруды». У входа уже толпились люди. Они спешили, толкались, но без паники, привычно, как в обычный час пик. Они спускались по эскалатору глубоко под землю, где воздух был тёплым и гулким. Платформы были забиты. Тысячи москвичей, прижавшись друг к другу, сидели на скамейках, прямо на полу, уложив детей. Некоторые спали, другие читали книги при свете ламп, третьи тихо переговаривались.
Иван и Фёдор нашли свободный уголок у стены. Рядом сидела молодая женщина с двумя детьми – мальчиком лет пяти и девочкой, совсем крошкой, закутанной в шаль. Девочка тихо всхлипывала.
– Ну что, детки, – говорила мать, прижимая их к себе, – не бойтесь. Здесь, под землёй, ни одна бомба не достанет.
Раздался первый глухой удар. Земля дрогнула. По потолку пробежала мелкая дрожь. Люди замерли. В воздухе повисла напряжённая тишина.
Мальчик, вцепившись в руку матери, спросил:
– Мама, это самолёты?
– Да, сынок. Самолёты. Но мы их прогоним.
Иван посмотрел на женщину. Лицо её было бледным, но взгляд – твёрдым. В нём читались и страх, и бесконечная любовь к детям, и удивительная, спокойная решимость.
– У вас, матушка, дети, – сказал Иван, указывая на скамейку рядом, где сидел старик, уступивший ему место. – Там свободнее.
Женщина кивнула в знак благодарности и перебралась к детям. Фёдор достал из вещмешка небольшой кусочек сахара, который приберёг для чая, и незаметно протянул его мальчику.
– На, сынок. Пососи. Отвлекись.
Глаза мальчика расширились. Он взял сахар, недоверчиво посмотрел на Фёдора, затем на мать. Женщина едва заметно кивнула. Малыш тут же сунул сахар в рот, и его личико просветлело.
Бомбёжка продолжалась. Глухие удары сотрясали землю. В какой-то момент раздался особенно сильный взрыв, и свет на платформе мигнул. Послышались испуганные вздохи, но паники не было. Люди оставались на своих местах, прижавшись друг к другу, словно единое целое.
Иван наблюдал за этой сценой. За спокойствием, которое женщина излучала, заботясь о своих детях. За тем, как Фёдор, старый, побитый жизнью солдат, протянул кусок сахара незнакомому ребёнку. В этом был ответ. Ответ на все его сомнения. Не партия, не вождь. Вот ради кого. Ради них. Ради этих детей, которые прячутся в метро. Ради этой женщины, которая держится, чтобы защитить их. Ради такого же мальчишки, каким когда-то был он сам, и его брата. Это и была Родина.
К концу октября ударили лютые морозы. Земля промёрзла насквозь. Лопаты, которыми рыли окопы и противотанковые рвы, ломались, как спички. Но люди не останавливались. Они продолжали копать. Руками. Сдирая кожу до крови. Мозоли превращались в открытые раны, но никто не роптал. Это был последний, отчаянный труд, последняя линия обороны, которую они строили своими телами, своей волей. Каждый удар, каждая содранная мозоль, каждая капля крови, упавшая на промёрзшую землю, были актом сопротивления, клятвой: «Москва не сдаётся!»
Несмотря на голод и холод, дух москвичей был поразительным. На улицах звучали песни, из репродукторов доносился голос Левитана, зачитывавшего сводки Совинформбюро и призывавшего к стойкости и борьбе. В театрах и кинотеатрах, работавших с перебоями, показывали фильмы о героизме на фронте и спектакли, поднимавшие боевой дух. На каждом углу висели пропагандистские плакаты: «Родина-мать зовёт!», «Фашизм не пройдёт!», «Всё для фронта! Всё для победы!» – эти слова витали в воздухе, проникая в каждую душу, становясь молитвой, лозунгом, девизом.
Полковник и капитан Смирнов часто ходили по улицам Москвы, наблюдая за подготовкой к обороне. Вот здесь, на Садовом кольце, возводились баррикады из мешков с песком и трамвайных вагонов. Там, на Можайском шоссе, устанавливались противотанковые ежи. В каждом дворе – посты противовоздушной обороны. Город готовился к последнему, решающему сражению.
– Ваня, – сказал как-то Фёдор Афанасьевич, когда они стояли у одной из баррикад и смотрели, как женщины тащат мешки с песком. – Думаешь, выстоим?
Иван посмотрел на него. В его глазах не было сомнений, только железная уверенность.
– Выстоим, Фёдор. Обязательно выстоим. Другого нам не дано. Москву не сдадим. За нами Родина. За нами… вот они, – он кивнул на работающих женщин, на тени, движущиеся в подземных убежищах. – А раз они сражаются, значит, и мы будем. До конца.
В эти дни, проведённые в ближнем тылу Москвы, Иван нашёл новую опору. Это была не вера в партию или вождя, как раньше. Это была вера в народ, в его несгибаемую волю. В ту самую землю, за которую он сражался с 1914 года. И он понимал, что его место – там, на передовой, в самом пекле, где решается судьба этой земли и этого народа. Он ждал нового приказа, нового назначения. Он был готов снова идти в бой.
Глава 6. Стальные клещи Нары
Зима ударила с невиданной силой, обрушив на поля и леса лютые морозы. Столбик термометра опускался до тридцати градусов ниже нуля, превращая воздух в колючий ледяной кристалл, пробирающий до костей. Земля промёрзла насквозь и стала твёрдой, как камень. Ледяной пронизывающий ветер свистел в голых ветвях деревьев, заметая окопы снежной пылью и обледеневшими кристаллами. Снег лежал глубоким, почти метровым слоем, затрудняя передвижение, скрывая минные поля и тела погибших.
950-й стрелковый полк, которым командовал полковник Иван Ковалёв, был переброшен на передовую Западного фронта, в район реки Нары, под Наро-Фоминск. Это был один из ключевых участков обороны Москвы, последний рубеж на пути врага к столице. Немцы, соединения 4-й полевой армии и 4-й танковой группы вермахта, рвались к сердцу страны, пытаясь окружить её с запада и юго-запада. Каждый день здесь шли ожесточённые бои, земля была пропитана кровью и потом.
Полк Ивана, хоть и пополнился свежими силами из числа ополченцев и новобранцев, был измотан до предела. Лица бойцов обветрились и покраснели от мороза, покрылись инеем и сажей, глаза лихорадочно блестели, но отступление от Березины, а затем и уроки Ельца научили их главному – держаться. Иван и сам не спал ночами. Бесконечно обходил позиции, проверяя каждую огневую точку, каждый блиндаж.
– Держимся, братцы! Москва за нами! Ни шагу назад! – его голос, хриплый от мороза и усталости, звучал в каждом окопе, проникая в души бойцов. Он сам был примером – его суровая, несгибаемая воля передавалась бойцам, словно незримая сила.
Капитан Фёдор Афанасьевич Смирнов, командир второй стрелковой роты, был его тенью. Он, как и Иван, казалось, забыл о сне и отдыхе. Его хриплый голос постоянно звучал над головами бойцов.
– Живо, братва! Мороз нам друг, а не враг! Немцы его боятся пуще чёрта! Растирайте ноги, вшивейте, но стойте!
Фёдор Афанасьевич, имевший опыт двух войн, знал, как общаться с солдатами, как поднимать их боевой дух. Он шутил, ругался, но всегда был рядом, разделяя с бойцами все тяготы.
Связь со штабом дивизии, которой командовал полковник П. А. Еремин (299-я стрелковая дивизия), была прерывистой, а часто и вовсе отсутствовала. Провода рвались от мороза и обстрелов, посыльные пропадали в снежных заносах или попадали под обстрел. Полк часто действовал в изоляции, полагаясь лишь на собственные силы и мужество командиров и бойцов.
Утро 3 декабря 1941 года выдалось особенно морозным. Воздух звенел от холода, при каждом вздохе изо рта вырывался пар, мгновенно превращаясь в иней на бровях и усах. Над передовой висела тревожная тишина, нарушаемая лишь редкими артиллерийскими залпами да свистом ледяного ветра. Позиции 950-го полка находились на одном из ключевых направлений. Перед ними – заснеженное поле, редкие перелески, словно застывшие в ледяном оцепенении, а за ними – деревня Яковлево и далее дорога на Наро-Фоминск.
Ровно в 7 утра началось. Небо полыхнуло алым, а затем стало чёрным от разрывов. Немецкая артиллерия обрушила шквал огня на позиции полка. Это была не просто артподготовка, а огненный вал, превращавший землю в ад, где всё горело, рвалось и стонало. Снаряды взрывались с оглушительным грохотом, поднимая фонтаны снега, льда, промёрзшей земли и человеческих тел. Земля содрогалась, небо разверзлось, и из него посыпались камни. Запах пороха, гари, пыли и крови мгновенно заполнил окопы, проникая под кожу и в лёгкие. Солдаты, прижавшись к стенам блиндажей, молились и сжимали оружие в руках. Все дрожали, но никто не смел отступить.
– Пригнуться! Без паники! После обстрела – в бой! – кричал Иван. Его голос едва пробивался сквозь грохот, но был слышен каждому.
Артподготовка длилась почти час. Когда она стихла и воздух очистился от дыма, из заснеженного поля, словно призраки из ада, вынырнули они. Немецкие танки. Pz. III и Pz. IV, ощетинившиеся пушками и пулемётами, двигались плотными клиньями, ломая тонкие деревья, давя кустарники, скрежеща гусеницами по промёрзшей земле. За ними – мотопехота, солдаты вермахта в белых маскировочных халатах, сливающихся со снегом, с закалёнными, безжалостными лицами. Это были части 20-й танковой дивизии и 292-й пехотной дивизии вермахта, наносившие основной удар. Их было много, слишком много.
– По танкам – огонь! Гранатомёты! По бортам! Пулемёты, отсечь пехоту! – голос Ивана был чётким, как выстрел, и пробивался сквозь шум приближающейся битвы. Полковник стоял на командном пункте, глядя в бинокль, и его лицо было каменным, на нём читалась лишь холодная решимость.
950-й полк открыл огонь. Противотанковые ружья хлестко били по броне. Красноармеец Михаил Дудкин, коренастый сибиряк, раненный ещё под Брянском, забыв о боли, с невероятной меткостью целился в борта танков, от его выстрелов в воздухе стоял металлический лязг, словно железо рвали на части.
– Есть! Ещё один! – крикнул Дудкин, когда очередной танк замер, окутанный дымом, с пробитой бронёй. Лицо сибиряка было покрыто инеем и сажей, но глаза горели фанатичным огнём.
«Максимы» Захара Петрова, надёжно укрытые в снежных брустверах, работали без перерыва, поливая свинцом наступающую пехоту. Их монотонный яростный треск сливался в сплошной гул. Трассирующие пули чертили огненные линии в морозном воздухе, создавая смертоносный узор.
Рядовой Павел Смирнов, молоденький паренёк из Подмосковья, недавно прибывший в полк, лежал рядом с Захаром, подавал ленты и дрожал от холода и ужаса. Но он не дрогнул. Он смотрел, как работает его командир, и в его глазах росла не паника, а восхищение.
– Не дрогнуть, братва! За Родину! За Москву! – кричал капитан Смирнов, и голос его был надрывным, но сильным. Сам он, держа в руках ПТР, целился в борт танка, и его руки, привыкшие к оружию, не дрожали. Выстрел. Танк замер, окутанный дымом, его броня была пробита.
– Вот так, братва! Бейте их, проклятых! – прохрипел Смирнов, перезаряжая ПТР. – Или мы их, или они нас!
Но немцев было слишком много. Их танки лезли со всех сторон, обходя опорные пункты и прорываясь в глубину обороны. Они давили окопы, сминая их, как картонные коробки, превращая траншеи в братские могилы. Над головой выли «Штуки», сбрасывая бомбы, и каждый пикирующий самолёт казался воплощением смерти.
На правом фланге полка, которым командовала 1-я рота, немцы прорвались. Оттуда доносились крики, звуки рукопашной, короткие очереди, а затем наступила тишина. Иван пытался связаться с флангом, но связь не работала.
– Фёдор! Со мной! – крикнул Иван.
Капитан Смирнов, весь в снегу и грязи, кивнул и повёл за собой небольшую группу бойцов, вооружённых гранатами и бутылками с зажигательной смесью.
– За мной, братва! Не дадим фрицам пройти!
Они бросились в прорыв, пытаясь оттеснить немцев от прорванного фланга. Завязался ожесточённый ближний бой. Штыки, приклады, крики, стоны, запах крови, смешанный с запахом бензина и гари, окутывали всё вокруг.
Иван лично вступил в бой. Его автомат ППШ стрелял короткими очередями. Он видел перед собой искажённые яростью лица немцев и бил их без пощады, пока они не падали, безвольно оседая в снег. В нём кипела ярость, холодная и беспощадная. Он видел, как гибнут его солдаты, как рушится оборона, и это доводило его до исступления, превращая в машину для убийства.
Бой продолжался весь день, не ослабевая ни на минуту. Волны немецких атак накатывали на позиции полка Ивана. Замерзали затворы винтовок, мёрзли руки, пальцы покрывались обмороженными пятнами, но солдаты продолжали сражаться, дуя на замёрзшие металлические части. Ополченцы, вчерашние рабочие, стояли насмерть, бросаясь под танки со связками гранат и поджигая их «коктейлями Молотова». Несколько бойцов, в том числе молодой красноармеец Илья Кузнецов, робкий парень из Тулы, который до войны работал на оружейном заводе, подожгли бутылку и с криком «За Родину!» бросились под танк, взорвав его. Взрыв поднял столб огня и дыма, и танк замер, его башня была изуродована.
Старшина Андрей Петров, крепкий неразговорчивый мужик, бывший тракторист, руководил обороной опорного пункта, почти полностью окружённого. Он метко стрелял из винтовки и без остановки бросал гранаты, его движения были спокойными и точными, словно он работал на тракторе.
К вечеру 3 декабря немцы, неся чудовищные потери и измотанные не только ожесточённым сопротивлением, но и лютым морозом, начали выдыхаться. Их атаки становились всё слабее, натиск ослабевал. Двигатели танков глохли на морозе, обмундирование не спасало от пронизывающего ветра, лица бойцов почернели от обморожения. Враг был измотан. Это был тот самый момент, которого ждали.
Иван, стоявший по пояс в окопе, весь в снегу и грязи, почувствовал это. На его почерневшем от копоти лице мелькнула суровая, почти звериная решимость.
– Товарищи! – его хриплый, но сильный голос разнёсся по окопам. – Они выдохлись! Вперёд! В контратаку! За мной!
Он первым поднялся из окопа, сжимая в руках ППШ. За ним, как один, поднялись остатки 950-го полка. Их было немного, всего несколько сотен из двух тысяч, но в их глазах горела та же ярость, та же решимость, что и в глазах командира. Капитан Смирнов, лицо которого было искажено от боли, шёл рядом, поддерживая полковника. Захар Петров, хоть его «Максим» и перегрелся, продолжал нести его на себе, готовый выстрелить в любой момент. Михаил Дудкин, несмотря на ранение, держал наготове ПТР.
Это был яростный, отчаянный рывок. Русские солдаты, словно мстительные призраки, набросились на слабеющего врага. Рукопашная схватка на снегу, в окопах. Штыки, приклады, ножи. Мороз сковывал движения, но ярость придавала сил. Немцы, не ожидавшие такого отпора от измотанного полка, дрогнули. Их строй рассыпался. Началось беспорядочное отступление. Они бросали оружие, технику, раненых, пытаясь спастись от яростного натиска русских, который был усилен нечеловеческой злобой и желанием отомстить.
950-й стрелковый полк гнал врага несколько километров, пока у бойцов совсем не закончились силы. Они остановились на опушке леса, глядя на поле, усеянное телами немцев, на брошенную технику. Разбитые танки, опрокинутые бронетранспортёры, штабеля трупов в белых маскировочных халатах, окрашивающих снег в багровый цвет. Это была победа. Локальная, но такая важная. Они удержали свой рубеж. Они отбросили врага.
Иван вернулся на свой командный пункт. Шинель на нём была порвана, по лицу текла кровь из царапины, но он не чувствовал боли. Он оглядел своих людей. Их было совсем немного. Лица были покрыты копотью, инеем, кровью, но в глазах горел огонь победителей.
– Молодцы, товарищи! Выстояли! – сказал Иван, и в его голосе прозвучала искренняя, глубокая гордость.
Фёдор Афанасьевич, опираясь на винтовку, подошёл к нему.
– С победой, Ваня. Они отступают! Отступают, сукины дети!
Иван кивнул. Да. Наша взяла. Пока.
В те дни таких маленьких побед, как оборона полка Ивана под Наро-Фоминском, было множество. Десятки, сотни полков и дивизий, цепляясь за каждый рубеж, за каждую пядь земли, истекая кровью, но не сдаваясь, останавливали врага. Морозы сковывали немецкую технику, голод и болезни косили их ряды, но главное – их остановил дух русского солдата, его несгибаемая воля. Это было началом конца «Тайфуна».