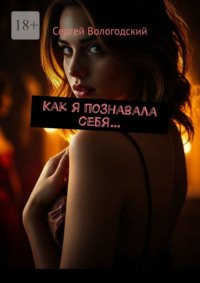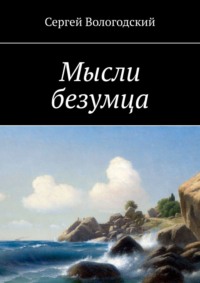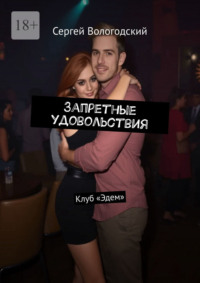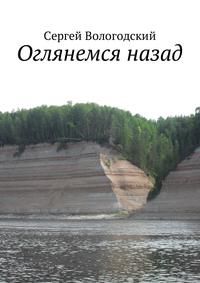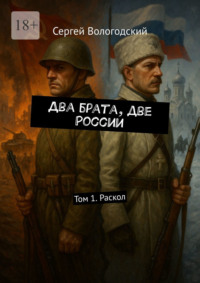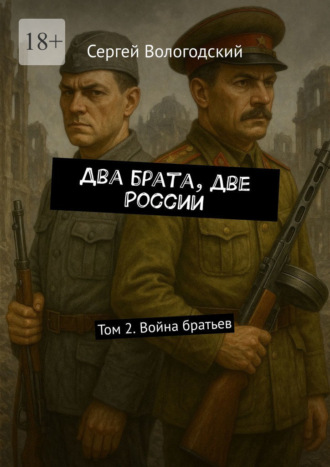
Полная версия
Два брата, две России. Том 2. Война братьев
Одним из первых к Ивану подошёл сержант Степан Терентьев, крепкий невысокий мужчина лет сорока пяти с обветренным лицом и жёсткими прищуренными глазами. Он воевал ещё в Первую мировую и повидал всякое. Степан вытер грязной ладонью пот со лба и присел рядом с Иваном.
– Вижу, нашелся командир! – прохрипел он. В его голосе слышалась усталая, но какая-то глухая, почти крестьянская мудрость. – Ладно, полковник, пойдём за вами, куда деваться… Всё равно помирать, так хоть под командой.
За ним, чуть робея, приблизился молодой красноармеец Лёшка Морозов, совсем пацан, лет девятнадцати, с веснушчатым лицом, на котором ещё не сошла юношеская припухлость. Он был бледен, его широко раскрытые от ужаса глаза лихорадочно блестели. В руках Лёшка крепко сжимал винтовку, которая казалась слишком большой для его ещё не окрепших рук. Он дрожал не только от холода.
– Товарищ полковник… какой приказ? Что делать… – прошептал Лёшка, умоляюще глядя на Ивана.
– Всем! Кто может держать оружие – ко мне! Кто без винтовки – ищите! Убитых, брошенных – собирайте! Мы не сдадимся! Мы должны удержать этот берег! – голос Ивана был твёрд и не оставлял места сомнениям. – Радиостанция разбита, товарищи! Связь только через посыльных, если кто-то доберётся! Но мы продержимся!
Его решимость передавалась другим. В его голосе не было паники, только суровая, непримиримая воля. Он был солдатом, который знал, что такое отступление, но не знал, что такое капитуляция.
Под его руководством за несколько часов из разрозненной толпы начали формироваться боеспособные группы. Они собирали брошенное оружие – винтовки, пулемёты, гранаты. Находили патроны в размокших подсумках.
Вскоре появился и пулемётчик Захар Петров, коренастый молчаливый мужик, лицо которого было покрыто слоем грязи и копоти. Он тащил свой «Максим», который чудом уцелел, наполовину утонув в болоте. Захар не произносил ни слова, но его движения были сосредоточенными и деловыми. Он был виртуозом пулемётного дела, и его «Максим» был для него чуть ли не единственным другом.
– Товарищ полковник, с «Максимом» всё в порядке, – прохрипел Захар, вытаскивая из пулемёта комья грязи. – Сейчас почистим.
Иван кивнул. Один «Максим» Захара стоил десятка винтовок.
Также были найдены два трофейных немецких пулемёта MG-34, доставшихся в наследство от уничтоженной немецкой разведгруппы. Расчёты для них сформировали из самых опытных бойцов.
К полудню 5 июля силами своих и примкнувших к нему бойцов (не более двух рот, человек двести) Иван организовал импровизированную оборону на участке восточного берега Березины, напротив Телуши. Река здесь делала изгиб, что давало некоторое тактическое преимущество. Вдоль берега наспех рыли окопы. Это были неглубокие траншеи, скорее лисьи норы, но они давали хоть какое-то укрытие от пуль и осколков. Единственный уцелевший полковой пулемёт «Максим» установили так, чтобы он простреливал подходы к уцелевшей паромной переправе. Два других трофейных пулемёта MG-34 тоже поставили на флангах.
– Товарищи красноармейцы! – обратился Иван к своим людям, и его голос, усиленный эхом, донёсся до всех. – Мы здесь, на этой земле! За нами – наши семьи! Наша Родина! Немцы наступают, но они не пройдут! Мы будем стоять насмерть! За каждую пядь русской земли!
Эти простые и ясные слова находили отклик в сердцах измученных солдат. Они были крестьянами и рабочими, и слова о «земле» и «Родине» были им понятны. Усталость отступала перед лицом надвигающейся угрозы.
Первая атака началась во второй половине дня 5 июля. Немецкая артиллерия обрушила шквал огня на их позиции. Земля содрогалась, как в лихорадке. Над головой пролетали снаряды, их вой оглушал. Затем сквозь клубы пыли и дыма появились первые немецкие штурмовые группы. Это была не бронетехника, а пехота, усиленная крупнокалиберными пулемётами, которая пыталась форсировать реку на надувных лодках и самодельных плотах.
– Огонь! – скомандовал Иван. – По лодкам! Не дать переправиться!
«Максим» Захара заговорил. Его монотонный, яростный треск косил немецких солдат, которые падали в воду, окрашивая её в красный цвет. Винтовки стреляли без перерыва, их выстрелы звучали сухо и резко. Степан Терентьев, прижавшись к брустверу, метко стрелял, подбадривая молодых бойцов.
– Не зевай, Лёшка! Не дай фрицу поднять голову! – крикнул Степан, перезаряжая винтовку.
Лёшка Морозов, хоть и дрожал, но продолжал стрелять. Его лицо было мокрым от пота и грязи.
– Да, товарищ сержант! Стреляю!
Река закипела от пуль.
Немцы несли потери, но продолжали наступать. Вторая волна. Третья. Они были хорошо обучены и действовали хладнокровно, пытаясь найти слабое место в обороне.
– Товарищ полковник, левый фланг! Прорыв! – крикнул один из бойцов.
Иван бросился на левый фланг, ведя за собой группу автоматчиков, которым удалось раздобыть несколько трофейных MP-40. Он стрелял короткими очередями, его движения были точными и выверенными. Он не щадил ни себя, ни врага. Его лицо было покрыто копотью и грязью, но глаза горели яростью.
Стемнело. Бой не утихал ни на минуту. Немцы попытались высадить десант под покровом темноты, используя более мелкие лодки и обходя основные пулемётные точки. Снова завязался ближний бой на берегу. Иван сражался в первых рядах, стреляя из винтовки, которую не выпускал из рук. Он бил прикладом, колол штыком, его китель был пропитан кровью – своей и чужой. Он видел перед собой искажённые яростью лица немцев и бил их, пока они не падали. Это была не просто оборона, это была отчаянная, животная схватка за выживание. Степан Терентьев дрался рядом с ним, как медведь, его наган грохотал, а удары прикладом были смертоносными. Лёшка, прижавшись к нему, стрелял в упор, его глаза были расширены, но в них уже не было паники, только тупая решимость. Захар, хоть и не мог навести свой «Максим» на ночных десантников, метко бросал гранаты, и его молчаливая фигура, выныривающая из темноты, наводила ужас на немцев.
На рассвете 6 июля немцы предприняли массированную атаку с использованием танков. Они перебросили через реку понтонный мост под прикрытием мощного артиллерийского огня. Теперь в бой вступили основные силы 12-й танковой дивизии и части 34-й пехотной дивизии вермахта. По мосту ползли тяжёлые «Панцеры», за ними – цепи пехоты.
– Огонь по мосту! Разрушить! – кричал Иван.
Единственная трёхдюймовая пушка, чудом доставленная на позиции, открыла огонь по понтонному мосту. Снаряды взрывались, поднимая фонтаны воды и обломки, но мост держался. Танки продолжали движение.
– Связки гранат! Под танки! Не дать пройти! – приказал Иван, его голос срывался на хрип.
Несколько бойцов, не дожидаясь приказа, бросились с гранатами под танки, жертвуя собой, чтобы остановить стальных чудовищ. Некоторые танки замирали, окутанные дымом, но остальные продолжали движение.
«Максим» Захара заработал с новой силой, поливая свинцом переправляющуюся пехоту. Сам Захар, не обращая внимания на свист пуль, продолжал перезаряжать ленты, его руки двигались с невероятной скоростью.
Степан Терентьев, отбросив винтовку, бросился под танк со связкой гранат. Оглушительный взрыв. Танк замер, его гусеница была разорвана. Но Степан… он не поднялся. Лёшка Морозов, увидев гибель сержанта, закричал, и в его голосе смешались горе и ярость. Он выпустил в танк весь магазин, стреляя в упор и не обращая внимания на огонь противника.
Это была мясорубка. Танки давили окопы, пикировали «Штуки», немецкая пехота, дисциплинированная и беспощадная, продвигалась вперёд. Запах пороха, крови и тлена был невыносим.
Иван, стоя по пояс в воде в окопе, руководил последним боем. Он стрелял, перезаряжал оружие, бросал гранаты. Видел, как падают его люди, как редеют ряды. Но они держались. Несколько часов горстка бойцов под командованием Ивана удерживала свой участок. Они уничтожили несколько танков, сожгли несколько бронетранспортёров. Не сдавались.
К середине дня 6 июля сопротивление было сломлено. Немцы, неся потери, всё же прорвали оборону. Бойцы Ивана сражались до последнего патрона. Последний «Максим» умолк, его расчёт погиб, а Захар так и остался лежать у своего верного орудия, мёртвой хваткой вцепившись в рукоятки.
Иван, раненный осколком в руку и голову, оглушённый взрывами, отбивался штыком от наседавших немцев. Он видел их лица – молодые, но уже безжалостные. Дрался до тех пор, пока его не ударили прикладом. Мир померк. Он упал в грязь, чувствуя, как его покидают силы.
Он очнулся уже в тылу. Его вместе с несколькими чудом уцелевшими бойцами, в том числе с перепуганным, но живым Лёшкой Морозовым, подобрали санитары, когда они, окровавленные и едва живые, ползли по лесу.
149-й стрелковый полк Ивана был уничтожен. Но его героическая оборона на Березине, хоть и продлилась всего двое суток, замедлила продвижение 12-й танковой дивизии вермахта. Эта задержка позволила другим частям Красной армии отойти на новые рубежи и укрепить оборону.
Он лежал в полевом госпитале, в душной, пропахшей йодом и кровью палатке. В голове гудело, рука болела. Рядом стонали раненые. Он выжил. Снова выжил.
Глава 3. Новые рубежи
Две недели в полевом госпитале пролетели одним мучительным днём. Тело Ивана, измученное боями на Березине, постепенно восстанавливалось. Рана на руке затянулась, головная боль от контузии утихла, но душевная рана, оставленная огнём и кровью, не заживала. Полковник лежал на койке в душной, пропахшей йодом и лекарствами палатке, слушал стоны раненых и чувствовал, как бездействие разъедает его изнутри. Каждый час, проведённый в тылу, казался предательством по отношению к тем, кто сейчас сражается на передовой, отдавая свои жизни за каждую пядь земли.
– Товарищ полковник, вам показан покой, – убеждал его молодой, ещё почти безбородый врач.
– Какой покой, доктор? – хрипло ответил Иван. Его взгляд был устремлён вдаль, за стены госпиталя. – Там Родина горит. Там гибнут мои бойцы. А я здесь гнию? Дайте справку, товарищ доктор. Я готов. Хочу в строй.
Врач лишь покачал головой. Он повидал немало таких случаев, когда усталость и отчаяние одолевали людей, но долг и ненависть к врагу поднимали их на ноги. Иван не был исключением. В его глазах горел тот самый холодный, жёсткий огонь, который отличает настоящих фронтовиков.
Через две недели после поступления в госпиталь, когда физическое состояние было признано удовлетворительным, Иван настоял на выписке. Он прошёл медицинскую комиссию, которая подтвердила его годность к строевой службе. Политруки, регулярно навещавшие раненых, восхищались его боевым духом.
– Нам сейчас такие командиры нужны, товарищ Ковалёв! – говорили они, глядя на потрёпанную гимнастёрку и упрямое лицо полковника.
Ещё две недели ушло на оформление документов, получение новой формы и оружия. К концу августа 1941 года, когда бои на Западном направлении разгорелись с новой силой, а под Смоленском образовался очередной «котёл», Ивана вызвали в штаб округа.
Его вызвал командующий фронтом. Генерал-лейтенант Ерёменко, человек с волевым, рубленым лицом, уже не тот, что отправлял его на Березину, посмотрел на Ивана с уважением. Слухи о героической обороне Ивана на Березине, о том, как он, получив полк за считаные часы до боя, сумел собрать людей и продержаться двое суток против превосходящих сил врага, дошли до самых высоких штабов.
– Полковник Ковалёв, – голос генерала звучал сухо, но весомо, – ваша оборона на Березине, несмотря на тяжёлые потери, дала нам драгоценное время. Ваше мужество и способность организовать оборону в условиях хаоса отступления высоко оценены командованием. Нам нужны такие командиры.
Полковник молчал, сжав губы. Он не считал себя героем. Он просто выполнял свою работу.
– Принимаете командование 950-м стрелковым полком 299-й стрелковой дивизии. Дивизия перебрасывается на Брянский фронт. Задача – прикрыть Орловское направление. Немцы рвутся к Брянску, а оттуда – прямая дорога на Москву. Полк сейчас на переформировании в районе города Елец. Примете его, приведёте в порядок и будете готовы к выдвижению. Времени мало, товарищ полковник.
Иван кивнул. Брянск. Орёл. Снова оборона. Снова сдерживание.
– Выезжаете немедленно. Дорога тяжёлая. Эшелоны забиты. Но вы справитесь. Считайте, что от вас зависит судьба столицы.
Путь на юг, к Ельцу, оказался таким же, если не более тяжёлым, чем предыдущий. Железнодорожные пути перегружены, станции забиты войсками, эшелонами с ранеными и беженцами. В воздухе витало ощущение невыносимой, всеобъемлющей катастрофы. В небе постоянно мелькали немецкие самолёты, бомбившие коммуникации. На дорогах – бесконечный поток отступающих, беженцев и транспорта. Люди были измотаны, но в их глазах читалась надежда – на то, что фронт выстоит, что Красная армия даст отпор.
Елец встретил Ивана гулом, словно встревоженный улей. Здесь формировались новые части, собирались резервы. 950-й стрелковый полк, который предстояло возглавить, представлял собой пёструю картину: несколько сотен молодых, необстрелянных новобранцев, только что призванных из тыловых районов, на лицах которых ещё лежала печать вчерашней мирной жизни; десяток-другой опытных, но уставших сержантов и старшин, прошедших финскую войну или первые дни Великой Отечественной; и несколько младших офицеров, только что окончивших ускоренные курсы. Техники было мало, но оружие выдавали регулярно: новенькие винтовки, несколько пулемётов, противотанковые ружья.
Полковник сразу же погрузился в работу. Нужно было в кратчайшие сроки превратить эту массу людей в боеспособную единицу. Дни и ночи без остатка уходили на строевую подготовку, занятия по тактике, отработку действий в обороне. Он лично руководил занятиями, показывал, объяснял, требовал беспрекословного выполнения приказов. Командир был жёстким, но его жёсткость проистекала из глубокого понимания ситуации: только дисциплина и умение воевать могли спасти жизни бойцов и удержать фронт.
Осматривая ротные подразделения, полковник замер. Перед ним стоял командир одной из рот – коренастый, с уже пробивающейся сединой на висках, но ещё крепкий, с лицом, изрезанным шрамами, и глазами, в которых застыли вековая мудрость и усталость. Что-то в облике бойца показалось Ивану до боли знакомым.
– Капитан, ваша фамилия? – спросил Иван, слегка прищурившись.
– Смирнов, товарищ полковник! Капитан Смирнов, Фёдор Афанасьевич! Командир второй стрелковой роты! – ответил тот чётко, по уставу, вытягиваясь в струнку. Голос его был глуховатым, с хрипотцой.
Иван вздрогнул. Смирнов. Фёдор Афанасьевич. Неужели?
– Фёдор… это ты, чертяка? – Голос полковника был низким, почти недоверчивым, и в нём проскользнула давно забытая теплота.
Лицо капитана Смирнова медленно изменилось. Его безразличные до этого глаза расширились, в них вспыхнуло узнавание.
– Ваня?! Иван Ефимович?! Не могу поверить… Живой! – Голос Фёдора был глухим, но в нём слышалась искренняя, надрывная радость.
Иван крепко обнял старого товарища и похлопал его по спине. Это было не по уставу, но в тот момент не было ни устава, ни званий – только два старых солдата, чудом встретившихся на этой безумной войне.
Отошли в сторону, подальше от любопытных новобранцев. Оказалось, что Фёдор Афанасьевич после Гражданской остался в армии. Учился на курсах, продвигался по службе. Его полк, как и многие другие, был разбит в первые дни войны, и капитана Смирнова перебросили сюда, в 299-ю дивизию, на переформирование.
– Ну как, Фёдор? Что думаешь о боях? – спросил Иван.
Фёдор Афанасьевич тяжело вздохнул, его лицо стало серьёзным, а в глазах отразилась вся усталость.
– Что уж тут говорить, Ваня… Такого мы с тобой не видели ни на Германской, ни в Гражданскую. Немец прёт, как нечистая сила. Танки, самолёты – не люди, а машины. Наши, конечно, бьются, бьются до последнего. Но… Разрозненность, Ваня. Беспорядок. Командование не поспевает.
– Знаю, Фёдор, – кивнул Иван. Лицо полковника помрачнело. – Я сам через это прошёл. Но теперь… теперь наш долг – стоять. Ни шагу назад. Это наша земля.
Фёдор Афанасьевич посмотрел на него. В его взгляде читались усталость и глубокая преданность.
– Стоять, так стоять, Ваня. С тобой – хоть куда. Ты же знаешь, я за тобой пойду хоть на край света, хоть в самое пекло. Раз ты командир, значит, будем драться. А там… будь что будет.
Разговор прервал адъютант, сообщивший о прибытии новой партии новобранцев. Полковник и капитан быстро вернулись к своим обязанностям. Встреча с Фёдором не просто согрела душу. Она стала символом. Символом связи с прошлым, с теми, кто был рядом в самые страшные моменты. И символом того, что, несмотря на все расколы, на всю кровь, пролитую между своими, старые узы, старые связи, старое братство всё ещё живы. В этом безумии войны, когда мир вокруг трещал по швам, полковник обрёл новую опору, почувствовал, что он не одинок.
Дни в Ельце проходили в лихорадочной подготовке. 950-й стрелковый полк день за днём превращался в боевую единицу. Полковник не спал ночами, лично проверяя каждую роту, каждый взвод. Капитан Смирнов стал правой рукой полковника, его надёжной опорой. Он, как никто другой, умел общаться с солдатами, поднимать их боевой дух, превращать необстрелянных новобранцев в бойцов.
– Слушайте, братцы! Полковник наш, Иван Ефимович, с нами! Он мужик тертый, нюхал порох. С ним и окопы держать, и в атаку идти – не страшно! Дисциплина, товарищи! И победим! – говорил Фёдор Афанасьевич своим хрипловатым голосом, и его слова успокаивали бойцов.
К концу августа 950-й стрелковый полк полностью подготовился к выдвижению. Вскоре предстояло отправиться на запад, чтобы вступить в бой на подступах к Брянску и Орлу. Полковник знал, впереди ждут жесточайшие бои.
Глава 4. Под ударом «Тайфуна»
Путь на Брянский фронт, в район Ельца, стал новым испытанием. В конце августа 1941 года, когда 950-й стрелковый полк, которым командовал полковник Иван Ковалёв, грузился в эшелон. Железнодорожные станции были забиты до отказа. Эшелоны с эвакуированными заводами, ранеными, войсками – всё двигалось в хаосе, постоянно останавливаясь. Из вагонов доносились кашель, стоны и запах махорки. Железнодорожные пути, изрытые воронками от недавних бомбежек, словно кровоточили, напоминая о близости фронта. В небе то и дело появлялись «рамы» – немецкие разведчики FW 189, чьи зловещие силуэты предвещали скорое появление «юнкерсов» или «хейнкелей».
Наконец состав тронулся. Полк Ивана провёл в дороге двое суток. За окнами проносились выжженные поля, редкие полуразрушенные деревни, из земли торчали их печные трубы, похожие на обугленные кости. Иногда попадались колонны беженцев – бесконечный поток женщин, детей, стариков, тащивших на себе скудные пожитки. Их лица были серыми от пыли и отчаяния, глаза – пустыми, полными немого вопроса. Иван смотрел на них, и в душе его закипала глухая, неутолимая ярость. Это его землю топтали, его народ гнали, его Родину сжигали.
Прибыли на станцию в районе города Дмитровск-Орловский. Ночь была тёмной и душной, воздух – тяжёлым. Выгрузка проходила спешно, в постоянном нервном напряжении. Отсюда, от железнодорожного полотна, начинался их новый рубеж. 950-й стрелковый полк, входивший в состав 299-й стрелковой дивизии, получил задачу занять оборону на участке, прикрывающем дорогу на Орёл, в районе деревни Протасово и прилегающих высот. Это было стратегически важное направление – немцы рвались к Орлу, чтобы открыть себе путь на Москву.
Утро встретило их густым холодным туманом. Иван, капитан Смирнов и новый комиссар полка, молодой, с горящими глазами и верой в правоту партии, провели рекогносцировку. Выбранный участок представлял собой равнину, пересечённую неглубокими оврагами, редкими перелесками и пашнями. Несколько небольших возвышенностей доминировали над местностью, позволяя контролировать дорогу. Земля была сырой, липкой от осенней распутицы, которая вскоре обещала превратиться в непроходимую грязь.
– Товарищи командиры! – голос Ивана звучал глухо, но твёрдо, когда он собрал офицеров. – Вот наш рубеж. Понимаю, времени мало, людей не хватает. Но здесь мы должны стоять насмерть. Приказ есть приказ – ни шагу назад. Должны окопаться так, чтобы ни одна немецкая тварь не смогла пройти!
Дни и ночи полк без устали рыл землю. Новобранцы, вчерашние колхозники и рабочие, впервые столкнулись с таким изнурительным трудом. Мозоли на руках лопались, спины ныли, но лопаты не опускались. Иван ходил по позициям, лично проверяя каждую траншею, каждый окоп, требуя углубления и маскировки.
– Не жалейте земли, братцы! Земля сейчас – наш лучший друг! Чем глубже закопаемся, тем дольше проживём!
Рядом с полковником, не покладая рук, трудился капитан Смирнов. Его хриплый голос постоянно звучал над головами бойцов: «Живее, братва! Земля лентяев не терпит! Копайте глубже, фриц не дремлет!» Он умел найти подход к каждому: где-то пошутить, где-то крепко выругаться, где-то личным примером показать, как нужно держать лопату.
– Эх, Фёдор, – сказал Иван Смирнову, наблюдая за тем, как тот руководит работами на участке. – Помню, в Гражданскую ты тоже был мастером по окопам.
– Время прошло, а привычка, Ваня, осталась, – усмехнулся Смирнов, вытирая пот со лба. – Да и земля родная. На ней привычнее рыть окопы.
Первые несколько дней прошли относительно спокойно. Лишь изредка на горизонте появлялись немецкие разведчики на мотоциклах, да над головой пролетали самолёты. Но это было затишье перед бурей. Полк получал пополнение – в основном это были ополченцы из близлежащих городов, необстрелянные, но полные решимости. С ними прибыл и батальон противотанковых ружей (ПТР), несколько десятков ПТРД, способных пробивать броню лёгких и средних танков. Это давало надежду. В окопах начали налаживать быт. Появились шутки, редкие песни, но напряжение только нарастало.
В середине сентября напряжение возросло. Немецкая артиллерия начала систематические обстрелы их позиций. Снаряды взрывались, поднимая фонтаны земли и грязи, разрушая наспех построенные укрепления. «Штуки» пикировали, их вой резал слух, а бомбы падали прямо в окопы. Солдаты, ещё не привыкшие к такому аду, поначалу паниковали, но Иван и его командиры быстро навели порядок.
– Не бояться! Пригнуться! После разрывов – к оружию! – кричал Иван, сам прижимаясь к земле.
Утро 30 сентября 1941 года началось с небывалого грохота. Небо над ними превратилось в сплошную стену огня и дыма. Немецкая артиллерия, авиация – всё, что они могли собрать, обрушилось на позиции Красной армии. Это было начало операции «Тайфун», генерального наступления на Москву. Главный удар на Брянском фронте наносили соединения 2-й танковой группы генерала Гудериана, в состав которой входили 3-я и 4-я танковые дивизии, а также мотопехота.
Позиции 950-го стрелкового полка оказались на направлении главного удара. После многочасовой артподготовки, превратившей землю в месиво, из тумана и порохового дыма появились они. Немецкие танки. Сотни стальных чудовищ, идущих плотными клиньями. За ними – мотопехота на бронетранспортёрах и пехота на грузовиках.
– К оружию! По танкам – огонь! Пэтрэоры, цельтесь по бортам! – голос Ивана был хриплым, но уверенным. Он стоял на командном пункте, глядя в бинокль, и его лицо было каменным.
Первый эшелон немецких танков, в основном Pz. III и Pz. IV, словно доисторические чудовища, вынырнул из дымного марева. Гусеницы скрежетали по земле, моторы утробно ревели, а броня поглощала звуки выстрелов, оставаясь равнодушно-глухой к огню обороняющихся. Они шли сплошной стеной, не обращая внимания на разрывы гранат и пулемётные очереди, градом сыпавшиеся на броню. Противотанковые ружья, которых так не хватало, открыли огонь. Их сухой, хлесткий звук пробивался сквозь грохот боя. Тяжёлые пулемёты «Максим» косили немецкую пехоту, пытавшуюся спешиться. Солдаты полка, несмотря на ужас, держались. Новобранцы, бледные от страха, стреляли без остановки. Ветераны действовали хладнокровно.
– Не дрогнуть, братва! За Родину! За Москву! – кричал капитан Смирнов, и голос его был надрывным, но сильным. Сам он, держа в руках ПТР, целился в борт танка. Выстрел. Танк замер, окутанный дымом, его броня была пробита. Ещё один пулемётчик, красноармеец Михаил Дудкин, коренастый сибиряк, промахнулся по первому танку, но следующим выстрелом попал во второй.
– Вот так, братва! Бейте их, проклятых! – прохрипел Смирнов, перезаряжая ПТР. – Они тоже пробиваются! Видите?!
Но немцев было слишком много. Их танки лезли со всех сторон, обходя опорные пункты и прорываясь в глубину обороны. Иван видел, как один за другим замолкают пулемёты, как взрываются блиндажи, как падают его бойцы, рассыпаясь, как соломенные куклы. Связь со штабом дивизии была потеряна с первых часов наступления. Радиостанция, работавшая с перебоями, умолкла, перебитая огнём. Полк сражался в полной изоляции.
Во второй половине дня немцы ввели в бой свежие силы. Танковые колонны при поддержке авиации наступали без перерыва. На левом фланге 950-го полка немецкие танки прорвались, окружив несколько рот. Оттуда доносились звуки отчаянного, но безнадёжного боя – короткие очереди, крики, стоны, а затем тишина. Иван пытался организовать контратаку, собрать резервы, но резервов не было. Остались лишь измученные, истекающие кровью бойцы.