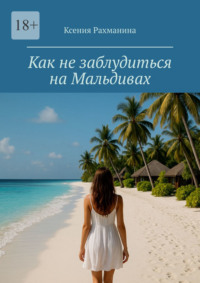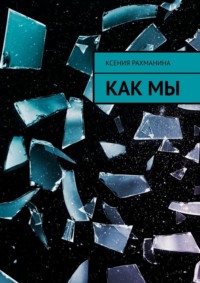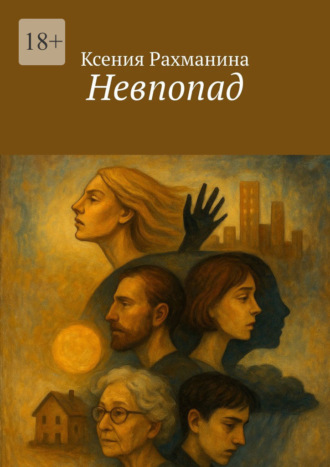
Полная версия
Невпопад
Призвание
– Чего ехали-то так долго?
Фраза сорвалась с уст не потому, что я действительно хотела её сказать, а скорее по привычке – так, чтобы заполнить тишину, которая уже успела стать невыносимой. Голос прозвучал тускло, будто чужой, без эмоций, без требования ответа, словно я говорила сама с собой в пустую комнату. Как будто слова просто вывалились из меня, обнажив то раздражение, которое накапливалось весь день, начиная с утреннего звонка тётки, когда я ещё лежала в постели и думала, что это будильник.
«Настя, мне плохо», – сказала она тогда, и я почему-то сразу подумала о том, что опоздаю на работу. Не о том, как ей плохо, а о своих делах. Всегда так – сначала о себе, потом обо всех остальных. Мама говорила, что это эгоизм, но я считала это инстинктом самосохранения. В конце концов, если я не позабочусь о себе, кто позаботится?
Ответа на свой вопрос я, конечно, не ждала. В комнате пахло тем особенным букетом, который бывает только в квартирах одиноких пожилых людей – лекарствами, пылью и старостью, к которым примешивался ещё какой-то сладковатый запах, возможно, от залежавшихся фруктов или от старых обоев, которые уже давно пора было переклеить. На диване, уткнувшись в подушку с выцветшими розочками, корчилась моя тётка, и даже в её позе чувствалось что-то детское, беспомощное – как будто она снова стала той девочкой, которой когда-то была, до всех этих лет, работы, замужества и потерь.
Она что-то шептала сквозь зубы, закусив нижнюю губу так сильно, что я боялась – сейчас прокусит до крови. Видимо, от боли. Я услышала знакомое слово – «почки» – и снова отвернулась к окну, где за тюлевой занавеской маячили серые контуры соседнего дома. Кажется, она уже говорила мне об этом, мельком, по телефону, когда я торопилась куда-то и слушала вполуха. Или не говорила? Сейчас уже не вспомнить, потому что в последнее время я почти не слушала её – всё время куда-то бегу: с одной работы на другую, потом в магазин, потом домой, потом сюда, к тётке.
Приехать, что-то приготовить из того, что найдётся в холодильнике, вытереть пыль с подоконников и телевизора, бросить беглый взгляд на её лицо, чтобы убедиться, что она ещё жива, и убежать обратно в свою жизнь, где меня ждали недописанные отчёты, немытая посуда и сериал, который я смотрела уже третий месяц, растягивая удовольствие. Такая вот забота – формальная, дежурная, без души.
Скорая приехала с опозданием, что в нашем районе было скорее правилом, чем исключением. Мы ждали их больше часа, и за это время я успела обойти всю квартиру, заглянуть в каждый угол, который помнила с детства, и удивиться тому, как всё изменилось с тех пор, как здесь жил её муж. Тогда в доме был порядок, даже уют – книги стояли ровными рядами, на столе всегда лежала свежая скатерть, а из кухни доносились запахи настоящей еды, не полуфабрикатов из магазина.
Теперь же всё словно покрылось пылью забвения. Книги стояли как попало, на столе лежали старые газеты и чайные пакетики, а в воздухе висел тот самый запах одиночества, который невозможно проветрить или замаскировать освежителем воздуха.
Я нервничала, то и дело поглядывала на телефон, проверяла время, вспоминала, выключила ли плиту дома, заперла ли дверь, не забыла ли покормить кота. Плиту я, конечно, выключила – я всегда выключаю плиту, даже если на ней ничего не готовлю. Просто так устроена моя голова: всегда отвлекается на мелочи, всегда находит повод для беспокойства, всегда выматывает саму себя бесконечной прокруткой одних и тех же мыслей.
Когда наконец послышались шаги на лестнице, я почувствовала странное облегчение – не потому, что теперь тётке помогут, а потому, что эта мучительная неопределённость закончится. Будет понятно, что делать дальше, будет план действий, будет движение вместо этого тягостного ожидания.
Врач оказалась женщиной лет шестидесяти – с острым подбородком, неопрятно заколотыми седеющими волосами и выражением лица, в котором усталость уже давно пересеклась с равнодушием. Видно было, что ей надоело всё – больные с их жалобами, пыльные ковры в чужих квартирах, чужие хрущёвки с их убогим интерьером и чужие беды, которые она не в силах исправить. На ней была медицинская куртка, явно не первой свежести, и в её движениях чувствовалась та механическая точность, которая приходит после тысяч подобных вызовов.
– Да знаете, сколько вас таких, – проворчала она, даже не поздоровавшись, на автомате надевая бахилы, изрядно порванные, видимо, ещё на прошлом вызове. – У кого серьёзное, кому пообщаться захотелось, а кто и белочку словил… Давайте посмотрим, что у нас тут.
В её голосе слышалась та особенная интонация медиков, которые видели всё и уже ничему не удивляются – ни человеческой глупости, ни человеческой боли, ни человеческому одиночеству. Она прошла в комнату, где лежала тётка, и я пошла следом, хотя понимала, что там мне делать нечего. Ни на что не надеялась – просто привычка всё контролировать, быть в курсе, держать руку на пульсе событий.
Сама себе уже давно противна от этой манеры: быть везде, но нигде по-настоящему. Присутствовать телом, но никогда душой. Слушать, но не слышать. Смотреть, но не видеть. Заботиться формально, для галочки, чтобы потом не мучиться угрызениями совести.
Тётка лежала тихо, с закрытыми глазами, и в этой тишине было что-то пугающее – не обычная тишина сна, а какая-то неправильная, настороженная. Её лицо осунулось за последние месяцы, появились новые морщины, которых я раньше не замечала, а кожа приобрела тот серовато-жёлтый оттенок, который бывает у людей, долго болеющих или очень уставших от жизни.
Я вдруг заметила на шее врача кулон – маленькую золотую скрипку на тонкой цепочке, которая поблёскивала в свете старой настольной лампы с зелёным абажуром. От лампы он отливал мягким тёплым светом, и что-то в этом украшении было странное, несовместимое с её образом, с этой комнатой, пропитанной запахом старости и лекарств.
Я вспомнила точно такой же кулон у своей одногруппницы из университета – длинноногой скрипачки Кати, вечной девы-драмы, которая носила длинные индийские юбки, постоянно закидывала волосы за плечо и любила рассказывать всем, что музыка у неё в крови, а все мы, экономисты, – просто скучные циники, которые не понимают прекрасного. Она играла в студенческом оркестре, участвовала в концертах и смотрела на нас с тем снисходительным сожалением, с каким смотрят на тех, кто лишён божественной искры творчества.
«Странный выбор украшения для врача, – подумала я, пытаясь хоть как-то логически объяснить себе, с чем он может быть связан.
– И давно у неё так? – отвлекла меня от размышлений врач, которая уже осматривала тётку, ощупывала живот, проверяла пульс.
Я вздрогнула, вернувшись в реальность. Вопрос был про тётку, конечно, про её состояние, а я витала в облаках воспоминаний. Я честно не знала, что ответить – мы виделись не так часто, и большую часть времени я проводила в попытках как можно быстрее сбежать отсюда.
– Да кто ж её знает… – пожала я плечами, чувствуя себя виноватой за своё невнимание. – Звонила сегодня утром, сказала, что плохо, ну, я и пришла. Она вообще в последнее время странная была. Молчит больше обычного, по квартире ходит как призрак… а потом – раз, и на диван, и всё. Лежит и стонет.
Врач кивнула, делая какие-то пометки в блокноте. Задала ещё пару дежурных вопросов про хронические заболевания, про лекарства, которые тётка принимает, про то, что она ела в последние дни. И я вдруг начала рассказывать про себя – сама не поняла, зачем, может быть, чтобы как-то оправдаться, объяснить, почему я так мало знаю о состоянии человека, за которого вроде как отвечаю.
Упомянула, как с работы бежала, бросив всё, как готовила ей обед, как вообще всё сама, без посторонней помощи, как тяжело одной справляться и с работой, и с домом, и ещё с чужими проблемами. Что всё на мне лежит, что никого больше нет, что устала уже от всего этого.
На самом деле я никому особенно ничего не готовила – просто разогрела борщ из магазина в микроволновке и сварила гречку в пакетиках, что заняло минут пятнадцать от силы. Но почему-то хотелось казаться более заботливой, более ответственной, чем я есть на самом деле. Хотелось, чтобы врач увидела во мне хорошую племянницу, а не равнодушную эгоистку, которая навещает больную родственницу из чувства долга.
Меня воспитывала мама – одна, без помощников и советчиков. Мы жили вдвоём в двухкомнатной квартире на окраине города, где каждый звук слышен через тонкие стены, где соседи знают друг о друге всё, но делают вид, что не знают ничего. Отец ушёл ещё до моего рождения, и никто особенно не рассказывал, куда и почему – просто нет его, и всё, как будто его никогда и не было.
Когда я была маленькой и спрашивала про папу, мама отводила глаза и начинала заниматься какими-нибудь домашними делами – мыть посуду, гладить бельё, вытирать пыль. Потом, когда я стала постарше и вопросы стали настойчивее, она сказала коротко: «Неважный он был человек». На этом разговор и закончился, и больше мы к этой теме не возвращались.
С бабушкой и дедушкой по отцовской линии мама тоже не общалась – из-за него, говорила, из-за того, что они его защищали, когда он нас бросил. Значит, всё-таки как-то он был важен в их жизни, если так серьёзно всех рассорил. Но подробностей я так никогда и не узнала – мама умела молчать, когда хотела, умела закрывать темы раз и навсегда.
Тётка появилась в моей жизни только после смерти мамы, когда мне было семнадцать и я училась в выпускном классе. Моя новая опекунша – родственница по материнской линии, двоюродная сестра мамы, по документам. Но по сути – практически чужой человек, потому что в детстве она мной не интересовалась совершенно.
Молодая тогда была, красивая, жила для себя и своих удовольствий – работала в каком-то офисе, встречалась с разными мужчинами, ездила в отпуска и покупала красивую одежду. О существовании племянницы вспоминала редко, в основном по праздникам, когда присылала открытки с дежурными пожеланиями здоровья и счастья.
Потом, когда мне исполнилось шестнадцать, она иногда забирала меня из школы – в основном, когда мама лежала с очередным приступом гипертонии или с температурой после простуды. Приводила к себе домой, кормила чем попало – макаронами с кетчупом, гречкой с сосисками, супом из пакетика. Ни тепла человеческого, ни задушевного разговора, ни попыток как-то сблизиться. Просто выполнение формальных обязанностей родственницы.
После смерти мамы я жила у неё почти год, но как-то всегда мечтала сбежать, потому что атмосфера в доме была какая-то напряжённая. Она явно не была готова к тому, чтобы в её размеренную жизнь ворвался подросток со своими проблемами, настроениями и потребностями. И я это чувствовала, старалась быть как можно незаметнее, не создавать лишних хлопот.
И сбежала – поступила в университет, устроилась в общежитие, хотя мне, как местной, это и не полагалось по правилам. Упросила, наврала что-то про невыносимые домашние условия, про необходимость сосредоточиться на учёбе. Там, в общаге, среди таких же оторванных от дома студентов, я впервые почувствовала, что можно быть собой – печь блины в три ночи на общей кухне, гулять до рассвета по пустым улицам, сидеть в коридоре в пижаме и слушать, как соседи поют под гитару песни, которые мы тогда считали очень глубокими и важными.
Тётка осталась одна в своей квартире, и я думала, что так и будет всегда – она будет жить своей жизнью, я своей, и наши пути больше не пересекутся. Но жизнь, как известно, любит преподносить сюрпризы.
Потом она вышла замуж – удачно и совершенно неожиданно для всех, кто её знал. В сорок пять лет, когда уже, казалось бы, поезд ушёл. Муж у неё был солидный, интеллигентный, с хорошими манерами – носил костюмы в тонкую полоску, аккуратно причёсывался, говорил чётко и внятно, как диктор центрального телевидения. Работал в каком-то институте, занимался наукой, писал статьи в специальные журналы.
Мне он даже нравился – один из немногих взрослых людей, который разговаривал со мной как с равной, интересовался моими делами в университете, спрашивал про планы на будущее. Называл меня Настенькой, и никто больше так не называл – ни до него, ни после. В его устах это звучало не приторно, а тепло, по-отечески.
С его появлением тётка изменилась до неузнаваемости – серьёзная стала, уравновешенная, даже как-то помолодела внешне. Перестала красить волосы в рыжий цвет, который ей никогда не шёл, отказалась от ярких нарядов в пользу элегантной простоты. Начала читать книги, которые он рекомендовал, слушать классическую музыку, ходить в театр.
Работала она тогда в местном Доме культуры – сначала простой уборщицей, потом постепенно выбралась в люди. То ли в методисты попала, то ли в организационный отдел – точно не помню, но суть в том, что она наконец-то нашла своё место в жизни. Устраивала концерты самодеятельности, организовывала выставки местных художников, занималась с детскими кружками. Казалось, что жизнь у неё наладилась окончательно и бесповоротно.
Теперь вот снова одна – он умер весной от инфаркта, внезапно, без предупреждения. А она, похоже, так и не нашла в себе сил жить дальше без него. А может быть, и не хотела – слишком много счастья выпало на её долю за те десять лет, что они прожили вместе, и теперь любая жизнь казалась ей серой и бессмысленной по сравнению с тем, что было.
– Анастасия Николаевна, – врач посмотрела на меня поверх очков, которые съехали на кончик носа. – Мы вашу тётку в стационар забираем. Камни в почках, похоже, сдвинулись, один довольно крупный. Больно ей сейчас, видите ж сами. Поедете с нами или как?
Я кивнула, даже не раздумывая. Конечно, поеду. Куда ж деваться – бросить её сейчас было бы слишком жестоко даже для меня, при всём моём эгоизме и равнодушии. Да и совесть потом замучает – всю жизнь буду помнить, как оставила больного человека одного в самый трудный момент.
Мы начали собираться. Врач с фельдшером аккуратно переложили тётку на носилки, я быстро собрала необходимые вещи – документы, лекарства, которые она постоянно принимает, сменное бельё, тапочки. Всё это происходило как-то механически, автоматически – руки сами знали, что делать, а голова была занята совсем другими мыслями.
Мы вышли на улицу, где нас ждала машина скорой помощи – белая, потрёпанная, с облупившейся краской на боках. Октябрьский ветер стегал по щекам, как будто наказывал за что-то – за равнодушие, может быть, за усталость от жизни, за безучастие к чужой боли. В воздухе пахло осенью, опавшими листьями и тем особенным запахом приближающейся зимы, который всегда вызывал у меня смутную тоску.
Я села в машину рядом с врачом. Тётку уложили на каталку, подключили капельницу. Она лежала тихо, только иногда морщилась от боли и что-то шептала неразборчиво. Врач сняла резиновые перчатки, проверила, как течёт капельница, записала что-то в карточку.
Мой взгляд снова упал на тот странный кулон – золотую скрипку, которая покачивалась у неё на груди в такт движению машины, как маятник старинных часов. Любопытство взяло верх над воспитанностью, и я не выдержала.
– Красивая у вас цепочка, – пробормотала я, кивнув в сторону кулона. – Необычная такая.
Она повернулась ко мне и впервые за всё время нашего знакомства улыбнулась – не той дежурной улыбкой медработника, а по-настоящему, чуть-чуть, еле заметно, но искренне. Лицо у неё стало совсем другим – моложе, светлее, живее.
– Нравится? – спросила она, осторожно дотронувшись до кулона пальцами. – Ну вот, а я думала, что у меня было настоящее призвание… К музыке, то есть. А оказалось – к медицине.
И тут она начала рассказывать свою историю – медленно, задумчиво, словно перелистывая страницы давно забытой книги.
Про то, как в детстве мечтала стать балериной, как представляла себя на большой сцене в белой пачке, как тайком репетировала перед зеркалом движения, подсмотренные в телевизионных передачах. Но в их маленьком городке никаких балетных студий не было, зато во Дворце пионеров работал музыкальный кружок, куда родители её и записали – мол, тоже искусство, тоже творчество, только попроще и поближе к дому.
Про скрипку, которую случайно обнаружили в квартире, когда они туда переехали – прежние жильцы забыли её в шкафу, завёрнутую в старое одеяло. Инструмент был не очень хорошего качества, но для начинающего вполне подходящий. Мать посмотрела на эту находку как на знак судьбы и сказала своё любимое: «Начала, значит, доведи до конца». Другого выбора не было.
Про то, как сначала было невыносимо трудно – ноты казались паутиной, в которой невозможно разобраться, струны резали неприученные пальцы до крови, а из инструмента вместо музыки извлекались только скрипы и визги, от которых болели уши. Слёзы текли каждый день – от боли, от досады, от ощущения собственной бездарности.
Но мать была непреклонна, а учительница музыки – терпелива и добра. И со временем всё стало получаться – сначала простые гаммы, потом мелодии, потом даже небольшие пьесы. Рука привыкла к инструменту, пальцы стали послушными, а в звуках появилась та самая музыка, которая раньше казалась недостижимой.
Она не мечтала о большой сцене или о славе – просто радовалась, когда у неё получалось сыграть что-то красивое, когда в школьном ансамбле её партия звучала в унисон с другими инструментами, когда после концерта в школьном актовом зале зрители аплодировали и улыбались. Дом культуры в их районе стал для неё вторым домом – там проходили репетиции, концерты, творческие встречи.
Она была скромной, тихой девочкой, которой не нужно было много для счастья – достаточно было просто играть музыку и чувствовать, что приносишь людям радость. После школы поступила в педагогический институт на музыкальное отделение, мечтала работать учителем музыки в школе, передавать детям свою любовь к прекрасному.
Но потом произошёл тот случай, который изменил всю её жизнь – нелепый, казалось бы, незначительный, но решающий. История, в которой смех смешался с ужасом, а случайность обернулась судьбой.
– Новая уборщица в нашем Доме культуры, – рассказывала она, глядя в окно машины, где мелькали огни вечернего города, – решила перекусить во время обеденного перерыва. Принесла с собой свежую вишню из собственного сада, сидит в подсобке, ест и радуется жизни. Вдруг слышит шаги – идёт начальство с проверкой.
Она испугалась, что её застанут за едой во время рабочего времени, и решила сделать вид, что работает – быстро спрятала миску с вишней, схватила швабру и начала усердно мыть пол. Но пару ягод не успела проглотить – косточки застряли в горле. Начала задыхаться, хватать воздух ртом, лицо стало синеть.
Началась паника – кто-то побежал звонить в скорую, кто-то пытался постучать по спине, кто-то просто стоял и не знал, что делать. А я как раз проходила мимо после репетиции, услышала шум, зашла посмотреть, что случилось. И увидела, что женщина задыхается.
Врач замолчала на минуту, вспоминая те далёкие события. В машине было тихо, только слышно было, как шуршат шины по асфальту и тихо работает мотор.
– Не знаю, что на меня нашло, – продолжала она. – Никакого медицинского образования у меня тогда не было, только школьные уроки биологии. Но что-то подсказало – надо действовать немедленно, иначе будет поздно. Подошла к ней, обхватила сзади руками и резко надавила на диафрагму. Раз, другой, третий – и косточка вылетела. Женщина задышала, зарыдала от облегчения.
Тогда это казалось просто удачей, везением, случайностью. Но потом, через несколько дней, пришёл муж той уборщицы – мужчина средних лет, в рабочей одежде, с мозолистыми руками и добрыми глазами. Принёс в подарок скрипку – настоящую, хорошую, дорогую, старинную, которая, как он рассказал, досталась ему от покойной тёщи и просто пылилась на антресолях.
– Музыка спасла мою жену, – сказал он тогда, и в его голосе дрожали слёзы. – Если бы вы не занимались музыкой, не были бы в тот момент в Доме культуры, не знали бы, как помочь… Она бы умерла. А теперь дома сидит, пироги печёт. Возьмите эту скрипку – пусть она служит тому, кто умеет спасать людей.
Врач снова замолчала, погладила кулон пальцами. В её глазах появилось то особенное выражение, которое бывает у людей, вспоминающих поворотный момент своей жизни.
– А я тогда подумала – стоп. Получается, что я случайно спасла человеку жизнь. И это дало мне такое ощущение… такую радость, какой я никогда не чувствовала, даже когда играла на сцене перед полным залом. Будто я нашла своё настоящее призвание. Будто вся моя предыдущая жизнь была просто подготовкой к этому моменту.
Она поступила в медицинский институт – не сразу, конечно, пришлось год готовиться, подтягивать химию и биологию, которые в музыкальном училище изучались постольку поскольку. Родители не понимали – зачем бросать музыку, в которой уже достигнут определённый уровень, ради совершенно незнакомой области. Друзья тоже недоумевали – какая связь между скрипкой и стетоскопом, между концертным залом и больничной палатой.
– Но я знала, что делаю правильно, – продолжала она, пока машина скорой помощи пробиралась через вечерние пробки. – Хотя нелегко мне было поначалу. Анатомия, физиология, патология – всё это давалось с трудом. Я же гуманитарий по складу ума, привыкла мыслить образами, а не формулами. Но что-то внутри подсказывало – терпи, учись, это твоё.
Институт она закончила не с красным дипломом, но добросовестно, без хвостов и пересдач. Распределилась в районную больницу, начала работать терапевтом. Потом перешла в скорую помощь – захотелось быть там, где люди нуждаются в немедленной помощи, где каждая минута на счету, где можно спасать жизни не в теории, а на практике.
– Тридцать лет работаю в скорой, – сказала она, и в её голосе прозвучала усталость. – Видела всякое. И радость, когда успеваешь помочь, и горе, когда опаздываешь. Но каждый раз, когда удаётся кого-то спасти, вспоминаю ту уборщицу с вишнёвой косточкой. И понимаю – правильно я тогда выбрала.
Мы подъехали к больнице – серому зданию советской постройки, которое даже в темноте выглядело угрюмо и неприветливо. Фельдшер уже выгружал каталку, врач собирала свои инструменты. Я помогла тётке подняться – она была слабой, но уже не стонала так сильно, видимо, обезболивающее начало действовать.
У неё дрожали руки, когда она пыталась идти, и я впервые заметила, как она постарела за последние месяцы после смерти мужа. Раньше я этого не видела – или не хотела видеть, слишком была занята своими делами.
– Не оставляй меня одну, Настя, – прошептала она, когда мы дошли до приёмного покоя. – Боюсь я… Так боюсь остаться одна.
В её голосе звучал не просто страх боли или операции – а тот глубинный страх одиночества, который накапливался в ней месяцами, с тех пор как она потеряла единственного близкого человека. Страх того, что никому она больше не нужна, что если что-то случится, никто не будет горевать, никто не заметит её отсутствия.
А кулон – золотая скрипка – всё ещё поблёскивал на груди врача в свете больничных ламп. Он напоминал о том, что случай может всё изменить – не только чужую жизнь, но и свою собственную. Что иногда одно мгновение, одно решение, один поступок могут определить всю дальнейшую судьбу.
Я посмотрела на тётку – маленькую, беспомощную, испуганную, – потом на врача, которая когда-то оставила музыку ради того, чтобы спасать людей, и вдруг поняла что-то важное. Поняла, что равнодушие – это тоже выбор, и что я слишком долго пряталась за маской занятости и усталости, чтобы не чувствовать чужую боль.
Я сжала её дрожащие пальцы своими руками и сказала:
– Я не оставлю тебя. Обещаю. Буду рядом, сколько нужно.
И, может быть, впервые в жизни, я действительно это имела в виду – не говорила для успокоения, не произносила дежурные слова, а давала настоящее обещание. Потому что поняла: мы все когда-нибудь становимся той испуганной женщиной с вишнёвой косточкой в горле, и единственное, что нас может спасти, – это то, что рядом окажется кто-то, кто не пройдёт мимо.
Врач со скрипкой на груди исчезла в глубине больничного коридора, а я осталась в приёмном покое, держа за руку тётку и впервые за много лет чувствуя, что делаю что-то по-настоящему важное. Не для галочки, не из чувства долга, а потому что так надо. Потому что иначе нельзя.
Регина
Если бы у серости был человеческий облик, он бы выглядел именно так: сутулая фигура с вечно опущенными плечами, словно на них лежит невидимый груз всех нерешённых проблем мира, тонкие, блеклые волосы с тем невыразимым оттенком где-то между пепельным и мышиным, которые она всегда собирала в небрежный пучок на затылке, закрепляя обычной резинкой для денег. Никакого макияжа, ни капли помады, ни даже того прозрачного блеска для губ, который продавался в любом ларьке за копейки и которым пользовались даже самые неприхотливые девочки нашего курса.