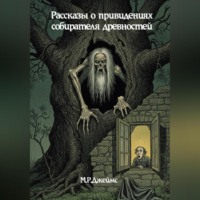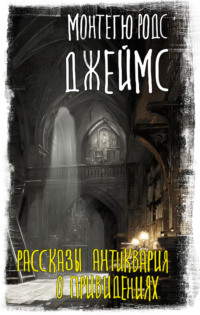Полная версия
Рассказы о привидениях собирателя древностей

Монтегю Родс Джеймс
Рассказы о привидениях собирателя древностей
Эти рассказы посвящаются всем тем,
кто в разное время их слушал.
Если кому-то любопытно, где разворачиваются события моих историй, то пусть будет известно, что Сен-Бертран-де-Комменж и Виборг – места реальные, а в рассказе «О, свистни, и я приду к тебе» я держал в мыслях Филикстоу. Что же до разбросанных по страницам обрывков показной эрудиции, то в них едва ли найдется хоть что-то, не являющееся чистым вымыслом; разумеется, никогда не существовало книги, которую я цитирую в «Сокровище аббата Томаса». «Альбом каноника Альберика» был написан в 1894 году и вскоре напечатан в «Нэшнл Ревью», «Потерянные сердца» появились в «Пэлл Мэлл Мэгэзин»; из следующих пяти рассказов, большинство из которых я читал друзьям на Рождество в Королевском колледже Кембриджа, я помню лишь, что «Номер 13» был написан в 1899-м, а «Сокровище аббата Томаса» сочинено летом 1904 года.
М. Р. ДЖЕЙМС
АЛЬБОМ КАНОНИКА АЛЬБЕРИКА
Сен-Бертран-де-Комменж – заштатный городок в предгорьях Пиренеев, не слишком далеко от Тулузы и еще ближе к Баньер-де-Люшону. До самой Революции здесь была епископская кафедра, и в местном соборе до сих пор бывает некоторое число туристов. Весной 1883 года в это старинное местечко (назвать его городом язык не поворачивается, ибо жителей в нем нет и тысячи) прибыл англичанин. Он был выпускником Кембриджа, специально приехавшим из Тулузы, чтобы осмотреть церковь Святого Бертрана. Двоих своих друзей, не столь увлеченных археологией, он оставил в тулузской гостинице, пообещав присоединиться к ним на следующее утро. Им-то хватило бы и получаса в церкви, после чего все трое могли бы продолжить путешествие в сторону Оша. Но наш англичанин прибыл рано и намеревался исписать целый блокнот и извести несколько дюжин фотопластинок, описывая и запечатлевая каждый уголок чудесной церкви, что возвышается над небольшим холмом Комменжа.
Для успешного осуществления этого замысла необходимо было на весь день заполучить в свое распоряжение церковного служителя. И вот, пономарь, или ризничий (второе название я предпочитаю, пусть оно и не совсем точно), был вызван несколько бесцеремонной дамой, хозяйкой гостиницы «Красная шляпа». Когда он явился, англичанин нашел его неожиданно интересным объектом для изучения. Интерес представляла не столько внешность этого маленького, сухонького, сморщенного старичка (ибо он был точь-в-точь как дюжины других церковных сторожей во Франции), сколько его странный, вороватый – или, вернее, затравленный и подавленный – вид. Он то и дело искоса оглядывался через плечо; мышцы его спины и плеч, казалось, были постоянно сведены нервной судорогой, словно он ежеминутно ожидал оказаться в лапах врага. Англичанин не мог решить, кто перед ним: человек, одержимый навязчивой идеей, терзаемый угрызениями совести или невыносимо страдающий под гнетом жены-тирана. Последнее предположение, если взвесить все вероятности, казалось наиболее правдоподобным, и все же старик производил впечатление человека, преследуемого кем-то куда более грозным, чем даже сварливая супруга.
Впрочем, англичанин (назовем его Деннистоун) вскоре слишком углубился в свои записи и так увлекся фотоаппаратом, что лишь изредка бросал взгляд на ризничего. Всякий раз, когда он смотрел на старика, тот оказывался неподалеку: либо жался к стене, либо съеживался на одном из великолепных сидений в хорах. Через некоторое время Деннистоун почувствовал легкое беспокойство. Его начали одолевать смешанные подозрения: не отрывает ли он старика от завтрака, не считает ли тот его способным умыкнуть епископский посох из слоновой кости или пыльное чучело крокодила, висящее над купелью.
– Не хотите ли пойти домой? – сказал он наконец. – Я вполне могу закончить свои заметки и один. Если хотите, можете запереть меня. Мне понадобится здесь еще как минимум два часа, а вам, должно быть, холодно, не так ли?
– Боже милостивый! – воскликнул старичок, которого это предложение, казалось, повергло в необъяснимый ужас. – О таком и помыслить нельзя! Оставить мсье одного в церкви? Нет, нет, два часа, три – мне все едино. Я уже завтракал, и мне совсем не холодно, премного благодарен мсье.
«Что ж, мой милый, – сказал себе Деннистоун, – я вас предупредил, пеняйте на себя».
Не прошло и двух часов, как сиденья в хорах, огромный полуразрушенный орган, алтарная преграда епископа Жана де Молеона, остатки витражей и гобеленов, а также предметы из сокровищницы были тщательно и добросовестно изучены. Ризничий все так же не отходил от Деннистоуна ни на шаг и то и дело вздрагивал, словно ужаленный, когда его слуха достигал один из тех странных звуков, что наполняют большое пустое здание. Порою звуки эти были и впрямь необычны.
– Один раз, – рассказывал мне Деннистоун, – я готов был поклясться, что услышал тонкий металлический смешок где-то высоко в башне. Я метнул вопросительный взгляд на своего ризничего. Тот побелел как полотно. «Это он… то есть… это никого, дверь заперта», – только и сказал он, и мы с минуту смотрели друг на друга.
Еще один небольшой случай немало озадачил Деннистоуна. Он рассматривал большую темную картину, висевшую за алтарем – одну из цикла, иллюстрирующего чудеса святого Бертрана. Композиция картины была почти неразличима, но внизу имелась латинская надпись:
Qualiter S. Bertrandus liberavit hominem quem diabolus diu volebat strangulare. (Как святой Бертран избавил человека, коего дьявол долго пытался удушить.)
Деннистоун обернулся к ризничему с улыбкой и уже готовой сорваться с губ шуткой, но замер в изумлении, увидев, что старик стоит на коленях и смотрит на картину глазами страдающего просителя, крепко сжав руки, а по щекам его градом катятся слезы. Деннистоун, разумеется, сделал вид, что ничего не заметил, но вопрос не выходил у него из головы: «Почему подобная мазня может так сильно на кого-то действовать?» Ему показалось, что он нащупывает ключ к разгадке того странного взгляда, что озадачивал его весь день: этот человек, должно быть, мономан; но в чем же состояла его мономания?
Было около пяти часов; короткий день клонился к вечеру, и церковь стала наполняться тенями, а странные звуки – приглушенные шаги и далекие голоса, слышимые весь день, – казалось, становились все чаще и настойчивее, без сомнения, из-за гаснущего света и обострившегося слуха.
Ризничий впервые начал выказывать признаки спешки и нетерпения. Он вздохнул с облегчением, когда фотоаппарат и блокнот были наконец упакованы, и торопливо поманил Деннистоуна к западной двери церкви, под башней. Настало время звонить к «Ангелусу». Несколько рывков неподатливой веревки – и большой колокол Бертранда высоко в башне заговорил, и голос его понесся над соснами и долинами, гулкими от горных потоков, призывая обитателей этих уединенных холмов вспомнить и повторить приветствие ангела Той, кого он назвал Благословенной между женами. И тогда на маленький городок, казалось, впервые за день опустилась глубокая тишина, и Деннистоун с ризничим вышли из церкви.
На пороге у них завязался разговор.
– Мсье, кажется, интересовался старыми клиросными книгами в ризнице.
– Несомненно. Я как раз собирался спросить, есть ли в городе библиотека.
– Нет, мсье; возможно, когда-то была одна, принадлежавшая капитулу, но теперь это такое маленькое место… – Тут наступила странная пауза, полная нерешительности, а затем он, словно сделав усилие, продолжил: – Но если мсье – amateur des vieux livres, у меня дома есть кое-что, что могло бы его заинтересовать. Это в ста ярдах отсюда.
В тот же миг все заветные мечты Деннистоуна о находке бесценных рукописей в нетронутых уголках Франции вспыхнули, чтобы тут же угаснуть. Вероятно, это какой-нибудь дурацкий требник плантиновской печати, примерно 1580 года. Где гарантия, что место, столь близкое к Тулузе, не было давно уже обчищено коллекционерами? Однако было бы глупо не пойти; он бы корил себя вечно, если бы отказался. И они отправились в путь. По дороге Деннистоуну вспомнилась странная нерешительность и внезапная решимость ризничего, и он со стыдом подумал, не заманивают ли его в какой-нибудь закоулок, чтобы прикончить как якобы богатого англичанина. Поэтому он постарался завести разговор со своим провожатым и довольно неуклюже ввернул, что рано утром ждет приезда двух друзей. К его удивлению, это известие, казалось, тотчас избавило ризничего от части терзавшей его тревоги.
– Это хорошо, – сказал он довольно бодро, – это очень хорошо. Мсье будет путешествовать в компании друзей, они всегда будут рядом. Это хорошо – путешествовать в компании… иногда.
Последнее слово, казалось, было добавлено как запоздалая мысль и вновь повергло беднягу в уныние.
Вскоре они подошли к дому, который был несколько больше соседних, каменный, с гербом, вырезанным над дверью, – гербом Альберика де Молеона, побочного потомка, как говорит мне Деннистоун, епископа Жана де Молеона. Этот Альберик был каноником Комменжа с 1680 по 1701 год. Верхние окна особняка были заколочены, и все здание, как и остальной Комменж, несло на себе печать ветхости.
Оказавшись на пороге, ризничий на мгновение замешкался.
– Возможно, – сказал он, – возможно, в конце концов, у мсье нет времени?
– Вовсе нет, времени предостаточно, до завтра делать нечего. Давайте посмотрим, что у вас есть.
В этот момент дверь отворилась, и оттуда выглянуло лицо, гораздо моложе, чем у ризничего, но с тем же страдальческим выражением; только здесь оно, казалось, было печатью не столько страха за собственную безопасность, сколько острой тревоги за другого. Очевидно, обладательница этого лица была дочерью ризничего; и, если не считать описанного мною выражения, она была довольно красивой девушкой. Увидев отца в сопровождении крепкого незнакомца, она заметно повеселела. Отец с дочерью обменялись несколькими фразами, из которых Деннистоун уловил лишь слова ризничего: «Он смеялся в церкви», – на что девушка ответила лишь взглядом, полным ужаса.
Но через минуту они уже были в гостиной – небольшой высокой комнате с каменным полом, полной пляшущих теней от огня, трепетавшего в большом очаге. Высокое распятие, почти достигавшее потолка, придавало комнате вид молельни; фигура Христа была раскрашена в натуральные цвета, крест был черным. Под ним стоял сундук, старинный и прочный, и, когда принесли лампу и расставили стулья, ризничий подошел к этому сундуку и извлек из него, с растущим, как показалось Деннистоуну, волнением и нервозностью, большую книгу, завернутую в белую ткань, на которой красной нитью был грубо вышит крест. Еще до того, как обертка была снята, Деннистоуна заинтересовали размер и форма тома. «Слишком велик для требника, – подумал он, – и не похож на антифонарий; возможно, это и впрямь что-то стоящее». В следующее мгновение книга была открыта, и Деннистоун почувствовал, что наконец-то наткнулся на нечто большее, чем просто стоящее. Перед ним лежал большой фолиант, переплетенный, вероятно, в конце XVII века, с гербом каноника Альберика де Молеона, вытисненным золотом на крышках. В книге было, должно быть, листов сто пятьдесят, и почти на каждом был наклеен лист из иллюминированной рукописи. О такой коллекции Деннистоун не смел мечтать и в самых дерзких своих фантазиях. Здесь было десять листов из копии Книги Бытия, иллюстрированных рисунками, которые не могли быть созданы позднее 700 года н.э. Далее следовал полный набор иллюстраций из Псалтири английской работы, высочайшего качества, какое только мог явить XIII век; и, что, пожалуй, было лучше всего, – двадцать листов унциального письма на латыни, которые, судя по нескольким увиденным словам, должны были принадлежать какому-то очень раннему неизвестному святоотеческому трактату. Мог ли это быть фрагмент копии труда Папия «О словах Господних», которая, как было известно, еще в XII веке хранилась в Ниме?1 В любом случае, он твердо решил: эта книга должна вернуться с ним в Кембридж, даже если ему придется снять со счета все свои деньги и остаться в Сен-Бертране, пока их не доставят. Он взглянул на ризничего, чтобы понять по его лицу, продается ли книга. Ризничий был бледен, губы его дрожали.
– Если мсье будет любезен перевернуть до конца, – сказал он.
И мсье перевернул, с каждым листом находя все новые сокровища; а в конце книги он наткнулся на два бумажных листа, гораздо более поздних, чем все, что он видел до сих пор, и они его немало озадачили. Они, решил он, должно быть, современники того самого бессовестного каноника Альберика, который, без сомнения, разграбил библиотеку капитула Сен-Бертрана, чтобы составить этот бесценный альбом. На первом листе был план, тщательно начерченный и легко узнаваемый для человека, знающего местность, – план южного нефа и клуатра собора Святого Бертрана. По углам были нарисованы странные знаки, похожие на планетарные символы, и несколько еврейских слов; а в северо-западном углу клуатра золотой краской был начертан крест. Под планом шли несколько строк на латыни:
Responsa 12mi Dec. 1694. Interrogatum est: Inveniamne? Responsum est: Invenies. Fiamne dives? Fies. Vivamne invidendus? Vives. Moriarne in lecto meo? Ita. (Ответы от 12 декабря 1694 г. Вопрошено было: Найду ли я? Ответствовано: Найдешь. Стану ли я богат? Станешь. Буду ли я жить, вызывая зависть? Будешь. Умру ли я в своей постели? Да.)
«Хороший образец записей кладоискателя, – прокомментировал Деннистоун, – прямо-таки напоминает младшего каноника Квотермейна из „Старого собора Святого Павла“», – и перевернул лист.
То, что он увидел затем, потрясло его, как он мне не раз говорил, сильнее, чем он мог бы себе представить от любого рисунка или картины. И хотя самого рисунка больше не существует, есть его фотография (которая хранится у меня), и она полностью подтверждает это утверждение. Картина, о которой идет речь, была рисунком сепией конца семнадцатого века, изображавшим, на первый взгляд, библейскую сцену; ибо архитектура (рисунок изображал интерьер) и фигуры имели тот полуклассический оттенок, который художники двести лет назад считали уместным для иллюстраций к Библии. Справа на троне, вознесенном на двенадцать ступеней, под балдахином, в окружении воинов, сидел царь – очевидно, Соломон. Он наклонился вперед, простерши скипетр, в повелительной позе; его лицо выражало ужас и отвращение, но в нем также читался властный приказ и уверенность в своей силе. Левая же часть картины была самой странной. Именно там сосредоточился весь интерес. На полу перед троном сгрудились четыре воина, окружив скорчившуюся фигуру, которую я опишу через мгновение. Пятый воин лежал мертвым на полу, его шея была свернута, а глазные яблоки вылезали из орбит. Четыре стражника смотрели на царя. На их лицах чувство ужаса было еще сильнее; казалось, лишь безграничное доверие к своему повелителю удерживало их от бегства. Весь этот страх был, очевидно, вызван существом, что съежилось в их кругу. Я совершенно отчаиваюсь передать словами то впечатление, которое эта фигура производит на любого, кто на нее смотрит. Помню, как однажды я показал фотографию рисунка лектору по морфологии – человеку, я бы сказал, с ненормально здравым и лишенным воображения складом ума. Он категорически отказался оставаться один до конца вечера и позже признался мне, что много ночей не решался погасить свет перед сном. Однако основные черты фигуры я могу по крайней мере обозначить. Сначала вы видели лишь копну грубых, спутанных черных волос; затем становилось видно, что под ними скрывается тело ужасающей худобы, почти скелет, но с мышцами, выступающими, как проволока. Кисти рук были землисто-бледными, покрытыми, как и все тело, длинными грубыми волосами, и вооружены отвратительными когтями. Глаза, подведенные огненно-желтым, с угольно-черными зрачками, были устремлены на царя на троне со взглядом звериной ненависти. Представьте себе одного из тех жутких южноамериканских пауков-птицеедов, облеченного в человеческий облик и наделенного разумом чуть ниже человеческого, и вы получите некоторое слабое представление об ужасе, внушаемом этим отталкивающим изображением. Все, кому я показывал рисунок, неизменно говорили одно: «Это нарисовано с натуры».
Как только первый приступ неодолимого страха прошел, Деннистоун украдкой взглянул на своих хозяев. Ризничий закрыл лицо руками; его дочь, глядя на распятие на стене, лихорадочно перебирала четки.
Наконец был задан вопрос: «Эта книга продается?»
Последовало то же колебание, та же внезапная решимость, что он замечал и раньше, а затем прозвучал долгожданный ответ: «Если мсье будет угодно».
– Сколько вы за нее просите?
– Я возьму двести пятьдесят франков.
Это было поразительно. Даже совесть коллекционера иногда пробуждается, а совесть Деннистоуна была нежнее, чем у коллекционера.
– Добрый человек! – повторял он снова и снова. – Ваша книга стоит гораздо больше двухсот пятидесяти франков, уверяю вас, гораздо больше.
Но ответ не менялся: «Я возьму двести пятьдесят франков, не больше».
Отказаться от такого шанса было поистине невозможно. Деньги были уплачены, расписка подписана, за сделку выпили по бокалу вина, и тут ризничий словно преобразился. Он выпрямился, перестал бросать подозрительные взгляды за спину, он даже засмеялся – или попытался засмеяться. Деннистоун поднялся, чтобы уходить.
– Я буду иметь честь проводить мсье до его гостиницы? – сказал ризничий.
– О нет, спасибо! Тут и ста ярдов нет. Я прекрасно знаю дорогу, да и луна светит.
Предложение было повторено три или четыре раза, и столько же раз отклонено.
– Тогда, мсье, позовите меня, если… если будет случай. Держитесь середины дороги, по краям очень неровно.
– Непременно, непременно, – сказал Деннистоун, которому не терпелось в одиночестве изучить свою добычу; и он вышел в коридор с книгой под мышкой.
Здесь его встретила дочь; она, по-видимому, хотела провернуть небольшое дельце за свой счет; возможно, подобно Гиезию, «взять нечто» у чужестранца, которого пощадил ее отец.
– Серебряное распятие с цепочкой на шею; мсье, быть может, будет так добр принять его?
Ну, право, Деннистоуну эти вещи были не очень-то нужны. Что мадемуазель хотела за него?
– Ничего, ровным счетом ничего. Мсье более чем желанный гость.
Тон, которым это и многое другое было сказано, был безошибочно искренним, так что Деннистоуну оставалось лишь рассыпаться в благодарностях и позволить надеть цепочку себе на шею. Казалось, он и впрямь оказал отцу и дочери какую-то услугу, за которую они не знали, как его отблагодарить. Когда он отправился в путь со своей книгой, они стояли в дверях и смотрели ему вслед, и все еще смотрели, когда он помахал им на прощание со ступеней «Красной шляпы».
Ужин закончился, и Деннистоун был в своей спальне, запершись наедине со своим приобретением. Хозяйка гостиницы проявила к нему особый интерес с тех пор, как он сказал ей, что нанес визит ризничему и купил у него старую книгу. Ему также показалось, что он слышал поспешный диалог между ней и упомянутым ризничим в коридоре у столовой; разговор завершился какими-то словами о том, что «Пьер и Бертран будут ночевать в доме».
Все это время на него накатывало растущее чувство дискомфорта – возможно, нервная реакция после восторга от находки. Что бы это ни было, оно вылилось в убеждение, что кто-то стоит у него за спиной и что гораздо спокойнее сидеть спиной к стене. Все это, конечно, было сущим пустяком по сравнению с очевидной ценностью приобретенной им коллекции. И вот теперь, как я уже сказал, он был один в своей спальне, изучая сокровища каноника Альберика, в которых каждый миг открывалось что-то новое и восхитительное.
«Благослови Господь каноника Альберика! – сказал Деннистоун, имевший закоренелую привычку разговаривать сам с собой. – Интересно, где он теперь? Боже мой! Хотелось бы, чтобы эта хозяйка научилась смеяться как-то повеселее; от ее смеха такое чувство, будто в доме покойник. Еще полтрубки, говорите? Думаю, вы, пожалуй, правы. Интересно, что это за распятие, которое мне навязала эта барышня? Прошлый век, полагаю. Да, вероятно. Довольно неудобная штука на шее – тяжеловата. Скорее всего, ее отец носил его годами. Думаю, стоит его почистить, прежде чем убрать».
Он снял распятие и положил его на стол, когда его внимание привлек некий предмет, лежавший на красной скатерти у самого его левого локтя. Две-три мысли о том, что это могло быть, пронеслись в его голове с их немыслимой быстротой.
«Подушечка для перьев? Нет, ничего подобного в доме нет. Крыса? Нет, слишком черная. Большой паук? Надеюсь, что нет… нет. Боже всемогущий! Рука, как на той картине!»
В следующее неуловимое мгновение он все понял. Бледная, землистая кожа, обтягивающая лишь кости и сухожилия ужасающей силы; грубые черные волосы, длиннее, чем когда-либо росли на человеческой руке; ногти, растущие из кончиков пальцев и резко изгибающиеся вниз и вперед, серые, роговые и морщинистые.
Он вылетел из кресла, и сердце его стиснул смертельный, немыслимый ужас. Существо, чья левая рука покоилась на столе, поднималось в полный рост за его спиной, его правая рука была занесена над его головой. На нем были черные, изорванные одежды; грубые волосы покрывали его, как на рисунке. Нижняя челюсть была тонкой – как бы это сказать? – плоской, как у зверя; за черными губами виднелись зубы; носа не было; глаза огненно-желтого цвета, на фоне которого зрачки казались угольно-черными и напряженными, и ликующая ненависть и жажда убивать, светившаяся в них, – вот что было самым ужасающим во всем этом видении. В них был разум – разум выше звериного, но ниже человеческого.
Чувствами, которые вызвал этот ужас у Деннистоуна, были сильнейший физический страх и глубочайшее душевное отвращение. Что он сделал? Что он мог сделать? Он никогда не был до конца уверен, какие слова произнес, но он знает, что говорил, что слепо схватился за серебряное распятие, что ощутил движение демона в свою сторону и что завопил, как вопит животное в предсмертной агонии.
Пьер и Бертран, двое крепких слуг, вбежавших в комнату, ничего не увидели, но почувствовали, как их оттолкнуло в стороны нечто, проскользнувшее между ними, и нашли Деннистоуна в обмороке. Они просидели с ним всю ночь, а к девяти часам утра в Сен-Бертран прибыли его друзья. Он сам, хоть и был все еще потрясен и нервничал, к тому времени почти пришел в себя, и его рассказу поверили, но лишь после того, как увидели рисунок и поговорили с ризничим.
Почти на рассвете старичок пришел в гостиницу под каким-то предлогом и с глубочайшим интересом выслушал историю, пересказанную хозяйкой. Он не выказал никакого удивления.
«Это он, это он! Я сам его видел», – был его единственный комментарий; и на все расспросы он давал один ответ: «Deux fois je l’ai vu; mille fois je l’ai senti». Он ничего не рассказал им ни о происхождении книги, ни о подробностях своих переживаний. «Скоро я усну, и сон мой будет сладок. Зачем вам беспокоить меня?» – сказал он.2
Мы никогда не узнаем, что перенесли он или каноник Альберик де Молеон. На обороте того рокового рисунка было несколько строк, которые, можно предположить, проливают свет на ситуацию:
Contradictio Salomonis cum demonio nocturno.
Albericus de Mauléone delineavit.
V. Deus in adiutorium. Ps. Qui habitat.
Sancte Bertrande, demoniorum effugator, intercede pro me miserrimo.
*Primum uidi nocte 12(mi) Dec. 1694: uidebo mox ultimum. Peccaui et passus sum, plura adhuc passurus. Dec. 29, 1701.*3
Я так и не понял до конца, как Деннистоун расценивал события, о которых я поведал. Однажды он процитировал мне стих из Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Есть духи, которые созданы для мщения и в ярости своей усиливают свои удары». В другой раз он сказал: «Исайя был очень здравомыслящим человеком; разве он не говорит что-то о ночных чудовищах, живущих в развалинах Вавилона? Эти вещи пока что выше нашего понимания».
Еще одно его признание произвело на меня впечатление, и я ему посочувствовал. В прошлом году мы были в Комменже, чтобы увидеть гробницу каноника Альберика. Это большое мраморное сооружение с изваянием каноника в пышном парике и сутане, а внизу – витиеватая хвала его учености. Я видел, как Деннистоун долго разговаривал с викарием Сен-Бертрана, и когда мы уезжали, он сказал мне: «Надеюсь, это не грех, – вы знаете, я пресвитерианин, – но я… я верю, что за упокой души Альберика де Молеона будут „служить мессы и петь панихиды“». Затем он добавил с ноткой северного британца в голосе: «Я и не представлял, что они так дорого обходятся».
Книга находится в коллекции Уэнтуорта в Кембридже. Рисунок был сфотографирован, а затем сожжен Деннистоуном в день, когда он покинул Комменж во время своего первого визита.