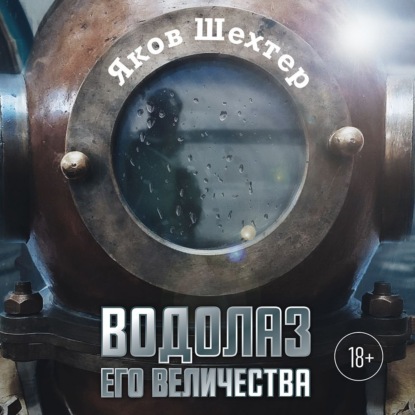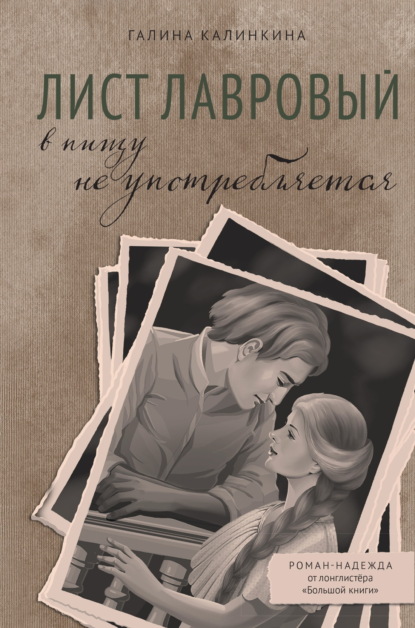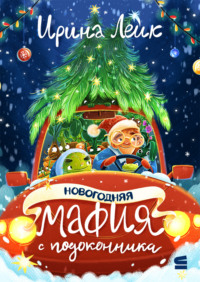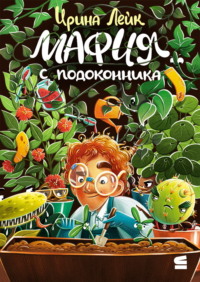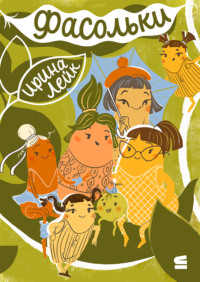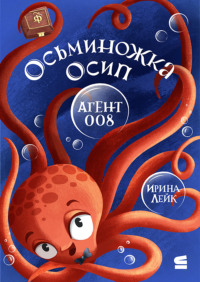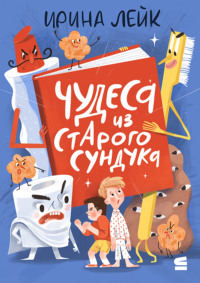Полная версия
Сто способов сбежать
– Катя сказала, она отвезет нас в аэропорт.
– Отлично.
– Хорошо, конечно, что она сама за рулем, но носится по городу, как таксист.
– И прекрасно.
– Как-то это для девочки…
– Очень правильно и очень удобно. Ни от кого не зависит и в автобусе не толкается.
– Вот я как раз про это.
– Про автобус?
– Про «не зависит». Тебе не кажется, что Егор – все-таки не совсем то. Они уже четыре года дружат, а он все никак ей предложение не сделает. Это несерьезно.
– Марина, открою тебе секрет, они не дружат.
– Ой, не надо сейчас этих твоих шуточек.
– Тогда и говори нормально, а то стала как твоя бабушка. Катя с Егором живут вместе, как нормальные современные молодые люди.
– Не цепляйся к словам – дружат, встречаются, живут… У меня вот вчера Анна Васильевна про Катю спросила, а я даже постеснялась сказать, что они не расписаны. А живут!
– И это проблема?
– Конечно.
– Боюсь, это твоя проблема. И проблема Анны Васильевны. Но никак не Кати и не Егора.
– И тебе, как отцу, все равно?
– Мне, как отцу, отлично. Моя дочь счастлива.
– Это все дед… Всех перепортил.
* * *Как получилось, что у хронически хороших и правильных Марины и Алеши могла получиться такая Катя, было в семье большой загадкой. Видимо, какая-то вечно подавляемая хромосома вдруг взбунтовалась, прорвалась и манифестировала во всей красе. Правда, у Марининой мамы была другая версия – та, что ходила по дому в трусах, исполняла на аккордеоне что-то отдаленно похожее на «Амурские волны» и отвратительно влияла на и без того непростого ребенка.
Ребенок, и в самом деле, получился весьма непростым с позиции правильных правил: у Кати был твердый характер, а также явно собственный путь и способ вырастания и взросления. Ее первыми словами были не «мама» и «папа», а «не хочу!», и она всегда отлично знала, чего именно не хочет. Марина очень быстро поняла, что ее дочь вряд ли впишется в мир четких правил приличных людей, и, как оказалось, тревожилась она не напрасно.
Все свое детство, если опираться на самые яркие и не самые приятные воспоминания, Марина провела у врачей в поликлиниках, мама с бабушкой при первых признаках бледности, кашля и любой степени недомогания тащили ее к участковому педиатру, а если тот не считал столь яркую картину опасного заболевания поводом для обширного обследования, назначения миллионов капель и таблеток и почти госпитализации, Марину запихивали в машину, где ее непрерывно тошнило, и везли к самым разным платным светилам. Ей вечно делали рентген и снимали кардиограмму, промывали миндалины, прижигали сосуды в носу, продували уши и назначали странные процедуры в кабинете физиотерапии, который благодаря интерьеру и диковинному оборудованию мог бы послужить отличной декорацией к фильмам про изощренных маньяков: там стояли железные громоздкие приборы с трубками, щупальцами, проводами и воронками для кварцевания, электрофореза, магнитотерапии и бог знает чего еще. Марина не замечала никакой разницы в своем самочувствии до и после процедур, она только ужасно потела, пока ее, упакованную, как для экспедиции по освоению далеких северных территорий, тащили до поликлиники, и умирала от скуки, пока дышала зелеными лучами из противной металлической трубки. Но мама и бабушка всегда оставались очень довольны, а значит, это были правильные, хорошие процедуры, и Марина стойко терпела. Когда она выросла, ее перестали таскать по врачам, но детство у нее в голове накрепко сцепилось со здравоохранением, и когда она только забеременела Катей, то стала скупать градусники, спринцовки, грелки, ингаляторы и прочее крайне необходимое для спасения младенческой жизни, которой ежеминутно, ежесекундно должна была грозить опасность. Потому что так было у всех и так было правильно: дети должны были болеть и выматывать взрослым нервы, чтобы тем было что рассказать знакомым, друзьям и соседям при встрече, вдоволь гордо хвастаться тяжкой родительской долей и оправдывать свое существование. Однако, родившись, Катя сразу же принялась путать Марине все планы. Для правильной Марины, девять месяцев готовившейся к тяготам материнства, этот ребенок и впрямь оказался сущим наказанием. Как будто она, словно турецкий султан, полвека собиралась на войну, а враг попросту не пришел. За все детство Катя толком ни разу не заболела, ветрянка длилась у нее ровно полдня, никакие кашли, диатез и сопли к ней не цеплялись. Она могла абсолютно без последствий облизать перила в подъезде, слопать сосульку, обниматься с болеющими детьми в садике, идеально засыпала, прекрасно спала, просыпалась всегда веселой, ела что дадут, бегала, прыгала, хохотала над голубями и собакой Бусей, ее никогда не укачивало ни в машине, ни в самолете. В общем, она была «отличный пацан», как называл ее любимый прадедушка.
Эти двое оказались идеальной бандой, опаснейшей группировкой, вступившей в преступный сговор при первом же знакомстве. Они могли бы запросто ограбить любой банк, будь в этом необходимость, и обвести вокруг пальца кого угодно. Катя впитывала все дурацкие привычки своего прадеда и мгновенно обучалась всему, что приводило ее маму, бабушку и прабабушку в панический ужас. Им звонили из детского сада, потому что Катя пыталась чокаться киселем и говорила тосты, а когда случайно услышала, как одна воспитательница пожаловалась другой на то, что на даче случился пожар, то с сочувствием сказала: «Ну, дом сгорел, зато клопы подохли», – после чего к ним чуть было не прислали комиссию проверять жилищные условия и благонадежность родителей и прочих опекунов. Катя научилась играть на аккордеоне, когда была еще почти с него ростом, у нее тут же заподозрили абсолютный слух и отдали в музыкальную школу. Разумеется, гордый дед взялся лично водить ее туда – ведь именно его заслугой было виртуозное Катино исполнение его собственной версии «Амурских волн», но, когда спустя полгода бабушка встретила на улице знакомого преподавателя по классу аккордеона и поинтересовалась успехами правнучки, оказалось, что той не было ни на одном занятии. При этом три раза в неделю они с дедушкой Геной исправно исчезали из дома как минимум на два часа, а иногда уходили и на дополнительные уроки сольфеджио по воскресеньям. Бабушка в недоумении попрощалась с педагогом и помчалась домой, бушуя и закипая от негодования, а по дороге стала перебирать странности, которые замечала за своим непредсказуемым венчаным супругом в последнее время: он вдруг стал покупать дорогие продукты, импортные виски и бренди вместо водки, приобрел в центральном магазине пиджак, шатался по квартире в новом пиджаке и трусах с крайне довольным видом и почти каждый вечер заводил разговоры о том, что скоро повезет всех своих родненьких на море. Учитывая, что из имущества у него был только злосчастный чемодан, колеса, приемник и аккордеон, а пенсия совершенно нищенская, это были довольно странные планы. Но море так море. Надо сказать, что с воскрешением дедушки бабушкина водная фобия резко пошла на убыль, она даже разрешила записать Катю на малышовое плавание в садике, лишь бы тема воды больше не всплывала в разговорах. На дедушкины обещания бабушка только улыбалась, но сейчас разволновалась не на шутку. Она ворвалась в квартиру, разбудила похрапывающего на диване деда и принялась вытрясать из него чистосердечное признание. Примерно в это же время Алеша возвращался с Катей из детского сада и задержался у подъезда, разговорившись с соседом. Катя пошла поиграть в песочнице, рядом под деревянным «грибком» резались в карты какие-то мужики. Алеша сразу и не понял, что и кому говорит его шестилетняя дочь, а обернулся только на восторженные возгласы.
– Валетом ходи, а туза прибереги, – сказала в этот момент Катя, и ее отец чуть было не свалился в обморок.
С музыкальной школой ни в тот раз, ни потом так ничего и не вышло, зато выяснилось, что маленькая девочка с трогательными косичками виртуозно овладела всеми популярными азартными карточными играми и запросто могла утереть нос любому шулеру. Ничего удивительного: три раза в неделю они с дедушкой отправлялись играть в карты на деньги в местное подпольное казино – к мужикам в гаражи. Дедушкины финансовые дела быстро пошли в гору, ставки текли рекой – никто не верил, что такая пигалица может выиграть у взрослых, да еще с такой легкостью. Катя была ужасно расстроена, когда ей сообщили, что никаких «музыкальных занятий» с дедушкой Геной больше не будет, но разлучить их все равно не смогли, так что к семи годам она запросто открывала кухонным ножом консервные банки, ловко управлялась с паяльником и насаживала на крючок червей, в десять лихо водила мопед, а к тринадцати и машину. Кто знает, может, к ее пятнадцатилетию они с дедом собрали бы собственный вертолет и улетели бы подальше от правил приличных людей, но дедушка тогда был уже далеко. Когда Кате исполнилось тринадцать, он тихо умер во сне от сердечного приступа. Больше всех по нему плакала дочь Татьяна, а бабушка, став вдовой во второй раз, организовала отпевание и пышные похороны и больше уже никогда не надевала розовых халатов с жуткими цветами и легкомысленными кисточками. Дом снова сделался правильным и стерильным, а она опять стала строгой и справедливой, матриархом на страже своей семьи. Выждав сорок дней после кончины Геночки, бабушка принесла в дом икону святого Исидора. Наверное, потому что однажды он ей уже помог, а в правилах приличных людей не было ни слова о том, что чудеса не случаются дважды.
* * *– Мама сказала, чтобы мы каждый день звонили. И писали. Папу же кладут на обследование.
– Что с ним такое?
– Покалывает в груди или под ребрами. И одышка. И еще голова болит.
– Со мной каждый день такое.
– Так, может, и тебе надо провериться?
– А на что его проверяют?
– Ой, там целая история. Бабушка сказала маме, что это очень похоже на аневризму и что, мол, папина мама, когда была жива, говорила ей, что у них в семье это наследственное, что, мол, ее брат, то есть папин дядя, умер от аневризмы совсем молодым. Мама, конечно, испугалась и записала его на обследование. Ему сначала ничего не сказала, просто диспансеризация. Но сама так нервничала, что вчера аж расплакалась, папа испугался и заставил ее все рассказать.
– И что?
– Да ничего. Бабушка опять напутала. Папин дядя погиб в аварии, никакой аневризмы у него сроду не было. Но не отменять же теперь обследование. Пусть проверится.
– Пока у нас есть бабушка, скучно не будет. Надо скорее уезжать, пока она нас с тобой проверять не кинулась.
– Она нам, кстати, подарила оберег в дорогу, вот, смотри.
– Это что? Кольцо? «Спаси и сохрани»? Ты серьезно?
– Ну да…
– Марина! Только бабки такое носят!
– Никакие не бабки! Это, между прочим, защита! И бабушка подарила, оно золотое, к твоему сведению!
– А нечистая сила боится 585-й пробы?
– Алеша! Не надо ерничать!
– И каким, позволь спросить, образом мы должны защищаться при помощи этого кольца? Что с ним делать в случае опасности? Проглотить?
– Вот что ты за человек! Все равно я его надену. Бабушка же…
* * *Заседания книжного клуба проходили раз в месяц в учительской.
– Мариночка Витальевна, – окликнула ее в коридоре завуч Наталья Сергеевна в начале прошлого учебного года.
Марина резко остановилась и вся сжалась в предчувствии дополнительных занятий с отстающими, второй смены, генеральной уборки или еще одного дежурства в выходные, но все оказалось вовсе не так плохо.
– Помните, дружочек, – заговорщицки начала Наталья Сергеевна, лучезарно улыбаясь, пребольно вцепилась Марине в локоть и потащила ее дальше по коридору. – На Новый год, на празднике, Людмилочка Матвеевна предложила прекрасную идею!
– А-хм-а… – выдавила Марина, потому что из всех прекрасных идей Людмилы Матвеевны смогла припомнить только предложение сходить в супермаркет и купить еще сладкого игристого, однако вряд ли Наталья Сергеевна говорила именно о нем, потому что тогда все закончилось почти катастрофой – компанию Людмиле Матвеевне чересчур бодро вызвался составить Юрий Петрович, учитель физики, который на тот момент состоял в близких отношениях с Диной Вадимовной, учительницей географии. В общем, педагогический коллектив в тот вечер остался без игристого и чуть было не остался без преподавателя физики.
– Она тогда выступила с инициативой создать у нас собственный книжный клуб! – просияла Наталья Сергеевна, а Марину вдруг охватила радость и даже почти восторг – вероятно, потому что неприятности в виде дежурств и поездок в роно на этот раз ее миновали, организм выдал ей внеочередную порцию дофамина.
– Какая прекрасная идея! – подхватила она. – Совершенно замечательная!
Хорошо, в этот момент она сделала крохотную паузу, чтобы вдохнуть, иначе уже спустя минуту выглядела бы идиоткой и выскочкой, посмей она высказать свое пожелание.
– Именно! Именно так, – елейно пропела Наталья Сергеевна. – А вести его будет Алиночка.
Видимо, этот день решил окатить Марину Витальевну максимально широким спектром эмоций, потому что теперь щеки у нее залило румянцем, а дыхание сбилось от разочарования, возмущения и вскипевшего было чувства несправедливости, которое, впрочем, очень быстро привычно откатило назад.
– Алиночка, – повторила Наталья Сергеевна, окончательно заколачивая маленький гробик надежды Марины на желанную роль ведущей книжного клуба, – моя племянница. Ну вы ее помните, она как раз в этом году оканчивает литературный институт, и ей очень нужна практика, вы же понимаете.
– Да-да, – кивнула Марина, понимая.
– А еще она сейчас учится на дополнительных курсах литературных критиков. Очень модные курсы, там еще ведет этот… да как же его… совершенно выпал из головы… подскажите, дружочек, ну, у него еще книга про скелеты там, рога какие-то… динозавры, что ли…
– Кадавры, – тихо сказала Марина Витальевна, глядя в линолеум.
– Очень хорошая девочка, очень умненькая, – с гордостью подвела итог Наталья Сергеевна. – В общем, начинаем со следующего вторника, будем встречаться раз в месяц. Пойду порадую остальных коллег.
Так начались Маринины мучения. Каждый второй вторник каждого месяца она, человек, выросший в правилах, впитавший правила и не мысливший жизни без правил, указаний и указателей, страдала, как на эшафоте, маялась, терзаемая этими самыми правилами, материализовавшимися в учительской в виде племянницы авторитарного завуча, старательно заготавливающей для нее самые изощренные виды пыток, практически казнь. Пусть и не буквальную, но кто знает, что было бы хуже.
В первый раз Марина примчалась на заседание книжного клуба, еще ничего не подозревая, предвкушала, радовалась, готовилась и даже записала в блокнотик список книг, которые ей хотелось обсудить с коллегами и блеснуть эрудированностью – одну из них она прочла на языке оригинала. Про Алиночку она как-то забыла, книжки вытеснили из ее головы племянницу Натальи Сергеевны – клуб ведь был ради книг, а Марина любила читать. Ей хотелось делиться, спорить, размышлять, восхищаться, а иногда и критиковать самую чуточку – она ведь имела на это право как опытный и посвященный читатель.
В учительской галдели, смеялись, звенели чашками, шумел электрический самовар, кто-то громко разговаривал по телефону, объясняя ребенку, где именно найти в морозилке пельмени: учительские дети редко видели мам, зато отлично самостоятельно готовили, стирали и убирали с самого раннего возраста. Вероника Альбертовна поливала цветы на подоконниках, Валерия Викторовна дула, прищурившись, в пустую сахарницу, пытаясь избавиться то ли от остатков сахара, то ли от накопившейся за лето скончавшейся там моли. Пахло яблочной шарлоткой, мелом и половой тряпкой – началом учебного года.
– Мариночка Витальевна! – бросилась к Марине навстречу преподаватель домоводства.
– Здравствуйте, Валентиночка Викторовна! Как вы загорели! Ой, и Верочка Васильевна здесь!
– И Евгеничка Пална тоже придет!
– Да что вы говорите! Как славно!
Это тоже было из внутреннего негласного свода правил педагогического коллектива: все знали друг друга вдоль и поперек, но обращались непременно на «вы», даже если встречались на рынке, в бане и на вечеринках, и единственным послаблением и признаком допуска в тайный учительский орден были уменьшительные формы имен, употребляемые, однако, исключительно с отчествами.
– А где же Вероничка Альбертовна?
– Будет-будет, и не одна, а с пряничками.
– Вам кофейку, Олечка Семеновна?
– Нет, давайте чайку, раз уж все чаек, то и я тоже. У меня и затылок что-то ноет, вдруг давление. Гляньте, щеки у меня не красные?
– Да вы красавица, красавица, персик наливной!
– Ой, какие туфельки у вас, Галиночка Дмитриевна.
– Да что вы, носила в прошлом году уже.
– Что вы говорите! Как же я не заметила? Хорошенькие какие и так на ножке сидят! Ну крошечная ножка, совершенно крошечная.
– А Галиночка Дмитриевна у нас вообще дюймовочка.
– И не говорите, Диночка Вадимовна.
– Можно мне вон тот кусочек? Нет, который поменьше, там еще яблочко пригорело, я так люблю. А прямо сюда давайте, я на салфеточку положу.
– Так вот же блюдечки принесли. Не крошите, Олечка Семеновна, вот блюдечко же, держите, я протерла полотенчиком.
– Добрый вечер! – раздалось с порога, и сначала Алину никто не услышал, но она решительно прошагала к столу, плюхнула на стул серый рюкзак и повторила: – Добрый. Вечер.
Следом за ней в учительскую почти на цыпочках просочилась Наталья Сергеевна, тот самый завуч, а по совместительству тетушка литературного дарования. Вид у нее был слегка встревоженный, если не сказать растрепанный.
– Ой, Алиночка! – подскочила Вера Васильевна. – Здравствуйте, милая. Присаживайтесь, сейчас мы вам чайку нальем. Пирожочка хотите? У нас и пряники есть, и конфеты. Наталичка Сергеевна, рады вас видеть. Какое платье у вас нарядное, как же вам синий идет! Так празднично, правда, коллеги?
– У нас не праздник, и мы не в столовой, – выдала вдруг племянница завуча с пронзительно- серьезным видом и покашляла, будто намеревалась не книжки обсуждать, а собирала единомышленников для подрыва чьих-то опасных устоев. И это было, очевидно, делом чрезвычайной важности. От нее почему-то пахло лежалым табаком и еще чем-то затхлым. – Давайте начнем первое заседание. Предлагаю выбрать название нашего книжного клуба.
– Как хорошо мы это придумали, книжный клуб, – защебетала Галина Дмитриевна, все еще не воспринимая странности происходящего всерьез. Остальные, однако, почувствовали неладное. Дина Вадимовна тихо опустилась на стул и потянула за рукав Марину Витальевну, Валерия Викторовна прищурилась, как только что, глядя в сахарницу. Все притихли и с недоумением переглядывались.
– Я предлагаю название «Терра ностра», – без малейшей улыбки на лице продолжила Алина.
– А чего не «Коза ностра»? – раздался в дверях мужской голос. – Здрасьте, коллеги! По мне, так нам как раз «Коза ностра» больше подойдет, ага? И авторитетно, опять же, и…
– Вы кто? – все так же бесстрастно спросила Алина.
– Николай Николаевич, химик местный…
– Вы не допускаетесь до участия в книжном клубе, – перебила его Алина. Николай Николаевич остолбенел, все остальные окончательно замолчали, и только Наталья Сергеевна вдруг быстро махнула ему рукой – сначала одной, а потом начала махать сразу обеими, отчаянно изображая «уходите!»
– Итак, «Терра ностра», – повторила Алина, проводив недобрым взглядом преподавателя химии, который удалился, с недоумением пожав плечами и прихватив с собой кусок пирога и пару пряников. – Мне кажется, это название отражает сам смысл и посыл такого объединения, как современный книжный клуб.
Собравшиеся по-прежнему молчали, никто не понимал, как себя вести, потому что желание у всех было только одно – выставить взашей эту девицу, с ее рюкзаком и прокуренным запахом, налить наконец чаю, снять под столом туфли и вдоволь поговорить хоть о книжках, хоть о чем. Но порядочные, правильные люди не могли так поступить, а уж педагоги тем более, поэтому все промолчали, а Марина Витальевна кивнула и постаралась бесшумно пристроить на край блюдечка чайную ложку.
– Я вижу, возражений нет, – продолжила серая племянница. – Проведем опрос. Кто из вас хотел бы предложить для обсуждения книги? Кто из вас читал интересную, глубокую и желательно современную литературу в последнее время?
Повисла пауза, а потом Людмила Матвеевна тихонько прокашлялась и сказала:
– Я как раз хотела предложить хорошую книгу, шведский детектив…
– Мы говорим о серьезной, глубокой литературе, – перебила ее Алина.
– А чем плохи детективы? – неожиданно дерзнула Ольга Семеновна.
– У нас нет на них времени, – объявила Алина и посмотрела на Ольгу Семеновну как на безнадежную умалишенную. – Сейчас, в нынешних обстоятельствах, у думающих, прогрессивных людей нет времени на легкую жанровую литературу, на беллетристику. Хотя вы, конечно, смотрите сами, вам виднее, это ваш книжный клуб, но меня пригласили его вести, и я рассчитывала на ваше доверие, на ваше уважение, на соответствующий уровень, – она неожиданно стала набирать обороты, повышая и без того неприятный скрипучий голос.
– Ну-ну, – тихо сказала Наталья Сергеевна, как будто притормаживая взбесившуюся лошадь. – Ну-ну, Алиночка, ну-ну, – и испепелила всех взглядом.
– В нынешних обстоятельствах, – продолжала Алина, – мы должны углубиться в изучение современной актуальной литературы, которая вскрывает нарывы, срывает маски, обнажает социальную проблематику! Вы хоть представляете себе, сколько проблем назрело в современном обществе? Сколько из них замалчивается?
Все покорно закивали, не произнося ни звука.
– Если вы, конечно, хотите навечно застрять на полке легкой литературы и не планируете развиваться, то я не стану вам этого запрещать. Пожалуйста, давайте обсуждать примитивную сентиментальную прозу. Или дешевые детективы.
– Нет-нет, ну что вы, – сказала Валентина Викторовна. – Мы полностью с вами согласны, мы – педагоги, мы должны стоять на страже… так сказать, современной проблематики и социальных… нужд…
– Я рада, что нашла понимание и позитивный отклик, – резко выдохнула Алина, порылась в рюкзаке и объявила: – Тогда книгой следующего месяца я предлагаю выбрать… – Она вытащила толстый кирпич в измятой мягкой обложке, залепленный пластиковыми закладками. – Вот. «Батиаль», книга очень популярной авторки Алеси Брыкиной. Она только что получила премию «Прорыв», сейчас у нее целых пять номинаций и два шорт-листа. Это глубокое произведение о том, как сложно в современном мире найти себя уникальной личности, как тяжело выжить глубоко травмированному человеку, это книга-поиск и прекрасный образец работы автора, который как никто, да, практически никто из современных авторов, пишущих по-русски, умеет сделать читателю так больно. А ведь в этом весь смысл, не так ли? Все записали название? Тогда на сегодня, полагаю все, до встречи ровно через месяц.
Алиночка запихнула «Батиаль» обратно в рюкзак, рюкзак забросила за плечо и, не попрощавшись, вышла из учительской. Наталья Сергеевна ухватила сумку и помчалась за ней, быстро махнув всем на прощание. В учительской повисла мертвая тишина.
– И что ж нам с этим прикажете делать? – спросила в «никуда» Ольга Семеновна.
– А чем все-таки плохи детективы? – сказала Людмила Матвеевна, когда шаги в коридоре окончательно стихли. – Достоевский тоже, между прочим, писал триллеры. А то и вообще… бульварные романы.
– Вот-вот, – добавила Галина Дмитриевна. – А Шекспир комедии. Жанровая вполне себе литература.
– Да ладно вам, коллеги, – выдохнула Вероника Альбертовна, – давайте уже чай пить и сходите посмотрите кто-нибудь – вдруг Николаш Николаич наш недалеко ушел. Может, и справимся с ней. И не такое, знаете, на наши головы сваливалось. Глядишь, и вытерпим, не так страшно все и окажется. Сколько ей месяцев практики нужно, этой Алине? Ради расписания можно потерпеть, правда? Наталь Сергевне тоже вон не сладко, видать. Ишь, как она за ней поскакала. Господи, а платье-то она сегодня напялила под стать мероприятию, честное слово, аж все вокруг синюшное стало. Но, может, все и выправится…
Но все оказалось как раз страшно, скучно и муторно, и каждый раз перед заседанием книжного клуба у Марины возникало ощущение, будто она увязла в расплавленном асфальте. Каждая новая книжка, категорично рекомендованная Алиной, была вязкой и прогорклой, как разогретый битум, вставала поперек горла саднящей рыбьей костью и не давала покоя, причем даже не унылым своим содержанием или пустым сюжетом, а самой необходимостью ее читать, мучить себя, продираясь через непролазную темноту и давящее чувство, странный стиль и события, которые кто-то как будто разбил бульдозером на неподъемные глыбы и расшвырял по несчастной книге, подчиняясь только правилам абсолютного хаоса. Да и герои выбранных Алиной книг тоже вызывали у Марины сплошные вопросы: в той самой «Батиали» травмированная уникальная личность была сорокалетним пьющим бездельником, который целыми днями валялся в съемной квартире на драном матрасе, заваленном старыми газетами, в алкогольном бреду видел себя героем этих самых газетных статей, путешествовал в пространстве и во времени, с трудом выбирался оттуда живым и, очнувшись, сваливал вину за все беды на свою несчастную мать, которая, видите ли, в детстве недостаточно прислушивалась к его внутренним талантам. Он размышлял о суициде, примерялся к подоконнику, цеплял петлю к турнику в дверном проеме, даже как-то выпил перекись водорода, которую автор, вероятно, посчитал достаточно сильным ядом, издевался над психологом, чьи услуги оплачивала та самая ужасная мать, досаждал всем остальным персонажам книги, но больше всего, как казалось Марине, действовал на нервы ни в чем не повинным читателям. Ужаснее всего было то, что почти во всех книгах, которые заставляла их читать Алина, не было нормальной концовки, как будто все эти правильные, социально активные и общественно ответственные авторы, коронованные премиями и шорт-листами, понятия не имели, зачем они завели всю эту нудную канитель и что им делать с героями, и просто бросали их – все равно где, но лучше примерно в конце пятисотой страницы, когда читатели и сами начинали перебирать способы покончить с жизнью. Марина была совершенно согласна с тем, что делать больно у этих писателей получалось просто прекрасно, но еще ей казалось, что никто из них совсем, ничуть и не капельки не любил ни свои книги, ни этих героев, и писали они только ради этих самых модных шорт-листов. Только однажды она посмела высказаться на книжном клубе, потому что терпеть ей в очередной раз стало совершенно невыносимо. Она подняла руку, как на уроке, и спросила, почему в повествовании нет никакой логики и ради чего герою претерпевать трансформации, после которых на самом деле лучше всего бы спрыгнуть с моста, лишь бы не портить своим присутствием ни жизнь окружающих, ни общество в целом.