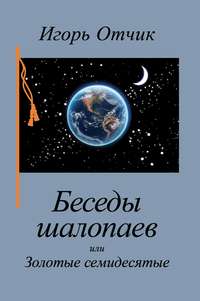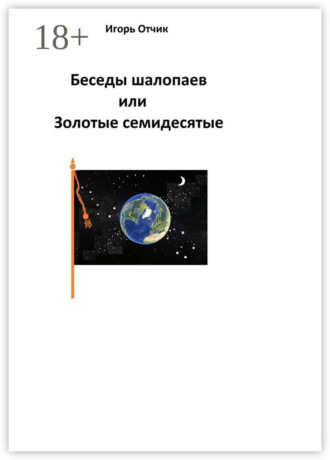
Полная версия
Беседы шалопаев или Золотые семидесятые
– Ну вот! Ты и так все знаешь. А если приедешь посмотреть, а там все убогое? Обидно будет. Да и зачем из праздного любопытства отвлекать людей, занятых делом, болтаться у них под ногами…
– А можно и не болтаться. Почему бы, например, не заняться экстремальным туризмом? Сплавиться по какой-нибудь реке в той же Новой Зеландии? Или пройти на байдарке по Амазонке? Кстати, вы еще не бывали на Джомолунгме?
– Да она исхожена вдоль и поперек! Слава достается только первому. А выше уже не поднимешься.
– А если принести туда складную лестницу? Залезешь на нее, и в книге рекордов Гиннеса появится запись: такого-то числа такой-то придурок поднялся на высоту 8850 метров над уровнем моря.
– Да ну ее, эту стремянку! Переть ее туда. Да и вершину мира засорять не стоит. Для этого на родных просторах достаточно мест.
– Кстати, ты вроде бы всю страну облетал на рейсах. Что-нибудь интересное запомнилось?
– Ну, в каждом городе есть что-то особенное. Но когда летаешь постоянно, оно все сливается – аэропорты, гостиницы…
– Понятно. А у меня их было немного, и я все отчетливо помню. Даже первые минуты здесь, в этом южном городе…
– Запах подгоревшего подсолнечного масла?
– Нет, вначале было другое. Горячий, сухой воздух обнял меня прямо на трапе самолета и шепнул: «Успокойся. Расслабься. Здесь не пропадешь». А еще удивила цветовая гамма: желтизна выгоревшей травы и блекло-голубое небо без единого облачка. Ароматы я почувствовал потом. Этот город пропах кабачками и перцем. Он, как южный базар, говорлив и пахуч. Он рифмуется с солнцем, салатом и сердцем, быстрым, теплым дождем из растрепанных туч. Он потоками летнего зноя пронизан, белой россыпью в зелени парков лежит. Виноградник опутал балконы, карнизы и сквозь дрему лениво листвой шевелит. Здесь в уютных дворах затаилась прохлада, старины сохраняя наивный уют. И стыдливая, нежная гроздь как награда за счастливый и Богом дарованный труд. Здесь с апреля по осень распахнуты окна, и не нужно на юг уезжать в отпуска. Здесь и в песню, и в танец вступают охотно, черный локон поправив слегка у виска. Здесь как молнии взгляды и смуглые лица, и веселая речь на родном языке, и пурпурная влага в бокалах искрится, поднимаясь для тоста в горячей руке. Льются скрипок певучие, чистые звуки, и задорные, звонкие бубны звенят. Этот город рифмую с любовью, с разлукой. Этот город с судьбою рифмует меня.
– Все-таки стишками балуешься…
– А кто по молодости этим не грешит?
– Меня бог миловал.
– Сочувствую.
А через неделю состоялся слет. И прошел он еще интереснее, чем предыдущий. Потому что звездой слета стал новичок нашей команды. Он был лучшим в легкой атлетике, он же вывел нашу команду на первое место в ориентировании, а в туристической эстафете – на второе. Кроме того, успел поучаствовать в оформлении лагеря и выпуске отрядной газеты, и нам за это дали приз с формулировкой «за оригинальность и мастерство». И в конкурсе художественной самодеятельности все его номера были приняты на «ура». А поздним вечером к нашему костру, у которого он солировал, подтянулся почти весь лагерь, и гитара ходила по кругу, и до утра звучали душевные песни, и лучше всех пел, конечно, он.
Каждый из нас невольно сравнивает себя с окружающими. Встречая сверстника, в чем-то превосходящего нас, мы испытываем смешанное чувство ревности и зависти, корни которого лежат в природном инстинкте соперничества. С возрастом этот инстинкт ослабевает, но в молодости бывает очень острым. Образ конкурента с преувеличенными нашим воображением достоинствами болезненной занозой сидит в памяти. Подозреваю, что столь же острые уколы зависти испытывают женщины в обществе яркой красотки, нагло перехватывающей мужское внимание. Конечно, мужчинам это пережить легче, поскольку у нас есть больше возможностей сказать: зато! Зато у меня есть разряд по боксу, зато я закончил мехмат университета, зато поднимался на Эльбрус, зато имею публикацию в журнале. Да мало ли чем можно себя успокоить!
Однако это был не тот случай. Успокоить себя мне было нечем. А вот ему было чем, хотя он этого и не афишировал. Во время слета выяснилось, что у него есть и свои, весьма неплохие, песни. А впоследствии стало известно, что он кандидат в мастера спорта по плаванию и гимнастике, и даже входил в молодежную сборную страны. Одно это могло убить самолюбие любого сверстника. Но и это, как оказалось, была лишь видимая часть айсберга.
Люди отзывались о нем по-разному. У девушек при упоминании его имени вспыхивали глаза. Сотрудницы постарше тоже не скрывали восхищения: «Комсомолец, спортсмен! Красавец! На гитаре поет». В мужских компаниях кривили губы: «Бабник». А его начальник как-то сказал: «Какой он работник? Да никакой!». Каждый видел в нем то, что был способен увидеть. А вот я не мог высказать конкретного мнения. И чем больше его узнавал, тем сложнее было это сделать.
Вообще-то говоря, я тоже считал себя личностью неординарной, и имел для этого определенные основания. Внешне, хотя и не подходил под эталон брутального мачо, был высок, строен, спортивен. Кроме того, обладал логическим мышлением, неплохо подвешенным языком и чувством юмора, а также некоторым кругозором и запасом общекультурных знаний, почерпнутых из прочитанной в детстве литературы. Окончив московский институт с красным дипломом, получив весьма престижную специальность и нахватавшись верхушек столичной культуры, я был достаточно самоуверенным субъектом, и привык свысока поглядывать на окружавшую меня провинциальную среду. Поэтому встреча с этим человеком, фактически, моим сверстником, стала для меня чем-то вроде неожиданного и очень неприятного холодного душа. Я видел, что во многом проигрываю ему, и остро переживал свою, казавшуюся мне очевидной, неполноценность. Эта нетривиальная личность постоянно привлекала мое внимание, вызывая противоречивые чувства и эмоции. А впоследствии в наши отношения вмешались женщины.
Свободными вечерами одинокому холостяку бывает скучновато. В мужских общежитиях от природной и душевной непогоды избавляются традиционными способами. Но пьянство как развлечение не устраивало ни меня, ни его, и это нас сближало. Поначалу наше общение носило случайный характер. У каждого были свои дела, интересы, отношения с людьми – то, что называется личной жизнью. Но постепенно шапочное знакомство переросло в нечто вроде дружбы, с острым привкусом соперничества с моей стороны. Встречаясь в свободное время то в моей, то в его комнате, мы слушали музыку, вспоминали что-то из последних фильмов и книг, шутили, смеялись. У меня было много магнитофонных лент, которые я собрал за студенческие годы. Это были многократно переписанные и не очень качественные записи концертов Высоцкого, Окуджавы, других бардов, но больше всего было зарубежной музыки, начиная, конечно, с The Beatles. У него тоже был магнитофон, и мы постоянно обменивались записями. До сих пор эти ленты, многократно склеенные, с осыпающимся магнитным слоем, в потрепанных картонных конвертах со старательно выписанными названиями песен и исполнителей, лежат на даче, на полке старого серванта рядом с видавшим виды магнитофоном «Маяк». На этих старых лентах с плывущим и пропадающим звуком хранится музыка самых любимых нами дисков тех лет: «Abbey Road», «Let It Be», «Imagine», «Deep Purple in Rock», «Machine Head», «The Dark Side of the Moon», «Look at Yourself» и многих других, так радовавших нас в те далекие годы. Их мелодии, ставшие классикой двадцатого века, уже давно оцифрованы и доступны на самой современной аудио- и даже видеотехнике, о чем мы когда-то и мечтать не смели, но все равно рука не поднимается выбросить эти трогательные свидетельства прошлого. Слишком много воспоминаний связано с ними.
Бывало, что наши беседы, начинавшиеся с легкомысленного трепа, выходили на серьезные темы. Большинство из них всплывало случайно. Обычно начиналось с какой-нибудь его провокационной фразы, которая, по сути, была шуткой, но действовала на меня как красная тряпка на быка. Он вообще отличался радикализмом в суждениях, оспаривал очевидные истины, издевался над признанными авторитетами. Это меня раздражало, и я тут же бросался его опровергать, а он с дьявольской изворотливостью защищался. Иногда эти споры затягивались допоздна, а к некоторым темам возвращались неоднократно. Я не оставлял попыток найти изъяны в его теориях. Ведь абсолютных истин нет и быть не может. Откуда же этот его апломб? Чем оправдана самоуверенность? Ну, не может у человека быть все в порядке! Так не бывает. Так и не было. Но тем более удивительным было его отношение к житейским проблемам. Оно было наплевательским. Как к мухам: надоест – прихлопнем, не мешает – и хрен с ней! Однажды, в ответ на мое недоумение, он процитировал молитву какого-то испанского монаха: «Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, дай терпения, чтобы выдержать то, чего я не могу изменить, и дай мне разум, чтобы отличить одно от другого». А еще добавил знаменитую фразу царя Соломона: «Все пройдет, и это тоже». А третье правило он вывел из своего житейского опыта: все проблемы, какими бы трудными они ни казались, рано или поздно разрешаются. Или просто исчезают. Как будто само время решает их за нас. Или какие-то высшие силы.
Разговаривать с ним тоже было непросто, особенно с непривычки. Иногда, когда я пытался высказать какую-то значимую, на мой взгляд, мысль, он со своей обычной полуулыбкой договаривал начатую мной фразу. И мне нечего было к этому добавить. Поначалу эти его замашки выводили меня из себя, и я выходил из его комнаты в сильном раздражении. Но он не придавал этому особого значения, и через некоторое время мы снова встречались и общались, как прежде. Рождалась ли в этих спорах истина? Трудно сказать. Но мне они были интересны, и я даже стал испытывать некую пресность жизни без этих словесных поединков, постоянно проигрываемых мною. Впрочем, в одной сфере, как мне казалось, я его превосходил. Как выяснилось, он работал сторожем на каком-то складе промышленного оборудования. Простым сторожем на складе! Даже этим он удивлял окружающих. А я, закончив факультет экономической кибернетики, получил диплом экономиста-математика, и сферой моей деятельности были автоматизированные системы управления (АСУ), электронно-вычислительные машины (ЭВМ), алгоритмы, программирование, оптимальное управление. В те годы информационные технологии еще только развивались, и заниматься ими считалось весьма престижным. Когда я небрежно упоминал свою специальность в компаниях, это всегда производило должное впечатление. Но только не на него. На него, похоже, вообще ничто не производило особого впечатления. Редко случалось, чтобы он чему-то удивился. Хмыкнет, бывало, со своей саркастической улыбкой. Так же иронично он улыбнулся, когда узнал о моей специальности. Меня это задело, и я попытался съязвить насчет непрестижности его работы, на что он спокойно возразил:
– Вообще-то говоря, не место красит человека.
– Ну, и чем же ты украсил столь престижное место?
– Во-первых, престижность нужна неуверенным в себе людям. Во-вторых, у меня одно из самых лучших рабочих мест. Таких должностей не так уж много. Ты знаешь, кому завидовал Эйнштейн? Правильно, смотрителю маяка. И, надеюсь, понимаешь почему?
– Одиночество. Ничто не мешает заниматься наукой. И почему ты не на маяке?
– Потому что одиночество мне не нужно. А умственная свобода нужна. Потому что я тоже люблю думать. Размышлять.
– В первый раз вижу человека, который любит думать!
Ничего себе! Вот это хобби! Мне действительно еще не встречались любители этого занятия. С профессионалами все понятно – это ученые. Настоящий исследователь размышляет над своими проблемами постоянно, даже во сне. И это вполне объяснимо: напряженная умственная деятельность – основное занятие ученых. Но встретить бескорыстного мыслителя на складе электросетевого оборудования? Сторож-мыслитель! Да это просто анекдот! Вроде еврея-оленевода. Правда, в фильме «Живет такой парень» какой-то пожилой водитель полуторки на Чуйском тракте тоже признается, что любит думать. По ночам, у костра.
Впрочем, в чужую голову не влезешь. Не исключено, что мыслящих людей среди нас не так уж и мало, но они благоразумно скрывают этот природный изъян от окружающих. Ведь еще в недавние исторические времена проблему избыточной мудрости решали крайне просто – усекновением самого ее источника. Да и сейчас во многих сферах деятельности вольномыслие недопустимо. Например, в вопросах религии. Или государственной идеологии. И то, и другое построено на вере, и обсуждению не подлежит. Потому что от праздных мыслей недалеко и до крамолы. Не зря Петр I издал официальный указ: «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, чтобы умом своим не смущать начальства». А кайзер Вильгельм выразился еще короче: «Не рассуждать!». Назначать слишком умных людей на государеву службу нежелательно еще и потому, что, чем умнее чиновник, тем более изощренные приемы он найдет для казнокрадства. Также недопустимо умствование в армии и на флоте, поскольку угрожает обороноспособности страны. Что касается гуманитарной сферы, здесь ситуация еще проще. Говорят, певцам и актерам голова нужна лишь для того, чтобы издавать ею звуки. А поэтам просто необходимо отключать мыслительный аппарат, чтобы не мешал вдохновению. Да и многие писатели прекрасно обходятся без умственных усилий, если судить по результатам их творчества.
О вреде этого сомнительного занятия предупреждали многие классики мировой литературы. В романе Хаггарда «Копи царя Соломона» главный герой с горечью признается: «По мере приближения старости мною, к великому моему сожалению, все более овладевает отвратительная привычка размышлять». И, наверное, прав был Ремарк, когда устами одного из героев констатировал: «Самая тяжелая болезнь мира – мышление! Она неизлечима». И Грибоедов предостерегал нас от этого горя. А Монтень писал, что перевидал на своем веку множество людей, которые утратили человеческий облик из-за безрассудной страсти к науке. Да я и сам встречал на мехмате МГУ странных типов с отсутствующим взглядом за толстыми стеклами очков и безумной полуулыбкой на лице. Как правило, в их неряшливом облике присутствовала некая перекошенность, и передвигались они как-то полубоком, вдоль стены, как крабы. С первого взгляда было понятно, что это потенциальные клиенты психиатрических лечебниц. А фантаст Станислав Лем описал трагедию мыслящего картофеля на одной отдаленной обитаемой планете. Эта высокоразвитая цивилизация погибла из-за того, что все ее представители однажды глубоко задумались над смыслом жизни и, придя к неутешительным выводам, совершили коллективное самоубийство. Это серьезное предупреждение всему прогрессивному человечеству.
Много позднее, в смутные годы перелома общественного строя, мне вспомнился этот разговор. Однажды, машинально переключая каналы телевизора, я обратил внимание на не совсем обычный сюжет. Это было что-то вроде международного клуба знакомств. Какой-то молодой, но толстый американец рассказывал о себе потенциальным невестам (синхронный перевод шел почему-то женским голосом, что было довольно забавно): «Первый свой миллион долларов я заработал в девятнадцать лет. Получилось это, можно сказать, случайно. Однажды, поговорив по мобильному телефону, я сунул его по привычке в карман и занялся своими делами. Но при этом я все время чувствовал мобильник в кармане, он мне мешал. „Как бы мне его держать при себе поудобнее?“ – подумал я, и тут же придумал небольшое устройство – чехол на поясном ремне. Потом я его запатентовал и вложил небольшую сумму в выпуск первой партии, которую реализовал через салоны сотовой связи. На вырученные деньги я организовал их промышленный выпуск и получил уже серьезную прибыль. Но вскоре продал этот бизнес, потому что он мне надоел. Зато я понял, что могу зарабатывать деньги своим умом. Кроме того, мне понравилось придумывать что-то новое. Еще несколько таких дел обеспечили мне финансовую независимость и возможность заниматься тем, что мне нравится. А я, по правде говоря, люблю думать. Сижу в своем любимом кресле, потягивая виски с содовой, и размышляю. Со стороны кажется – вот сидит бездельник и дремлет весь день. Но мало кто знает, что в это самое время я зарабатываю деньги собственными мозгами» – добавил толстяк и рассмеялся.
– А мне показалось, что и у тебя есть к этому склонность…
– Еще чего! Я люблю повеселиться, а особенно пожрать.
– Пожрать и поржать? Вот это как раз не диво. А жаль.
И здесь, раздраженный своей глупой шуткой и его покровительственным тоном, я снова начал выходить из себя. «Он любит думать! А я что, не думаю? Да мне приходится решать такие задачи, какие тебе и не снились! А вот о чем ты думаешь?!» – хотел выкрикнуть я. Но он опередил меня, словно угадав мои мысли:
– Я размышляю над тем, что мне интересно. А ты – над тем, что тебе поручено. Ты продаешь самое дорогое – время твоей жизни. И распоряжается им кто-то другой.
– Но все люди должны работать! Приносить хоть какую-то пользу. Зарабатывать на жизнь, в конце концов!
– И я работаю. Но мой ум свободен для нужных мне целей.
– Что же это за цели такие?
– Я вникаю в суть вещей и явлений.
– Суть? Не в том суть, что ссуть, а в том, что ссуть под окнами. Делом нужно заниматься! Конкретным, нужным людям делом!
– Ты, я вижу, очень гордишься своей специальностью. Звучит оно, конечно, красиво: кибернетика, алгоритмы, ЭВМ, процессоры, операционные системы и так далее. Особенно для романтичных барышень. А ведь все это бантики на платье голого короля.
– Да что ты в этом понимаешь!
– Чтобы оценить вкус супа, не обязательно съесть всю кастрюлю. Я тоже изучал основы информатики и программирования. Но профессия программиста мне не понравилась. По большому счету, это дело мало чем отличается от работы землекопа…
– Землекопа?! У тебя что-то с головой.
– Только выполняется умственным способом. И это не творческая, а вполне рутинная деятельность. Она дает человеку не реальные, а виртуальные знания. Которые быстро устаревают, как и сама техника. И все вложенные в них усилия пропадают зря. Все твои навыки, опыт – фикция. Скоро они окажутся никому не нужными.
В этот момент чрезвычайно неприятное, тошноватое ощущение неуверенности в себе, в своих, казалось бы, надежных убеждениях охватило меня. Словно земля покачнулась и уходит из-под ног. Я чувствовал устрашающую правоту его доводов и не хотел в них верить, но и опровергнуть не мог. А он продолжал меня добивать:
– Да и само по себе программирование носит обслуживающий характер. И ты тоже, если по правде, подносчик снарядов. Готовишь информацию, которую используют другие люди…
– Да, готовлю! И горжусь этим. Наша работа востребована технологическими отделами и руководством. Ты и представления не имеешь, какие объемы информации нужны для управления энергосистемой. О балансах энергии и мощности, динамике нагрузок и перетоках, о ремонтах и состоянии оборудования. О выработке электрической и тепловой энергии и ее потерях при передаче, об объемах и структуре электропотребления, о запасах топлива и его удельных расходах. И еще много чего. И за всей этой информацией люди и сложная техника. И большая ответственность. А все вместе нужно для стабильного энергоснабжения. Чтобы работали заводы, фабрики, транспорт, чтобы выпекался хлеб, действовал водопровод. Чтобы горела вот эта лампочка. Да чтобы все работало! Без электроэнергии человечество погрузится в мрак, во всех смыслах слова…
– Ладно, хватит лекций! А ты сам, чем конкретно занимаешься?
– Сейчас работаю над задачей оптимизации запасов на складах. Один из которых ты как раз и охраняешь. Нужно оценить количество запасных частей, чтобы их хватало для ремонта энергетического оборудования, но без ненужного избытка. Для этого применяется расчет на основе статистики аварийности оборудования, потока случайных событий Пуассона и заданного уровня надежности.
– И много ты сделал таких работ? Первая? Понятно. Применил общеизвестную формулу, и возгордился. Все вокруг зааплодировали, а ты раскланялся. Браво! Полный провинциальный успех. И это все? Неужели тебе не кажется, что ты достоин большего?
– Мало ли чего кому кажется! А делать нужно то, что нужно. И делать хорошо. Болтунов много, а дело тянут профессионалы. Мы не рассуждаем на философские темы, мы работаем. Я сам ставлю перед собой задачи повышенной сложности и решаю их.
– Это иллюзия. Просто ты, как чуткая лошадь, стараешься ускорить бег еще до того, как хозяин щелкнул кнутом. Кстати, слышал, какой русский не любит быстрой езды?
– Тот, на котором ездят.
– Так чего лукавить? Твоя инициатива ограничена поводьями в руках начальника. Если двинешься не в ту сторону, тебя тут же поправят. И будешь идти туда, куда тебе укажут, и везти то, что на тебя нагрузят. А если понадобится, то и подстегнут.
– Ладно, без плейбоев разберемся! Сам-то имеешь хоть какую-то специальность? Что ты закончил?
– Ничего. Но более правильно спросить, что я начинал. Я перепробовал несколько институтов, но когда начиналась узкая специализация, уходил без сожаления. Потому что не хочу ограничивать умственную свободу конкретной специальностью.
– И что, так и остался без диплома?
– А я не собираю красивые значки и бумажки с печатями.
– Но ведь без «корочек» не устроишься на приличную работу.
– Многие люди с дипломами занимаются очень неприличной работой. И наоборот.
– Значит, для тебя хобби важнее профессии?
– К сожалению, специальность «философ-вольнодум» трудовым законодательством не предусмотрена.
– А если бы была? Представляешь? Ты бы работал в должности ведущего мыслителя в Институте проблем универсального познания (НИИПУП), в отделе постижения основ прогрессивного агностицизма (ОПОПА). И тебе бы за это еще и платили…
– Не трави душу! Измученную несовершенством мира…
– А если серьезно? Вот познаешь ты эту самую главную суть, достигнешь высшей мудрости. Где ты ее применишь? Пойдешь устраиваться в правительство? На министерскую должность?
– Ну, почему сразу на министерскую? Можно и на замминистра, для начала. А там видно будет…
– Ну, ты и наглец!
– Но ты же сам к этому моменту уже будешь министром. Вот и примешь меня замом по общефилософским вопросам. С окладом согласно штатному расписанию. И персональным кабинетом.
– А если не стану министром? Чем займешься? Переквалифицируешься в управдомы? А может, продолжишь профессиональную карьеру? Глядишь, к пенсии и до швейцара дорастешь.
– Нет, швейцарская карьера мне не светит. Не имею специфических данных. А вот хорошие счетоводы, как известно, везде нужны.
О работе, карьере курьера, специфике профессий, черном понедельнике, грязной канаве, персональном кабинете, ручном и умственном труде и творческих шабашках
– Да ладно тебе! Вопрос серьезный. Работа это судьба человека.
– Не работа, а профессия. Выбирая профессию, выбираешь судьбу. А работа может быть и временной…
– Э, нет! В случайной работе можно застрять на всю жизнь. Бывает, человек берется за первое попавшееся дело, полагая его временным, а оно незаметно затягивает. Пока освоил, пока дождался отдачи – время пролетело. И оказывается, что это единственное, что ты знаешь и умеешь, и менять что-либо уже бессмысленно.
– Да, пожалуй. Это как с женой – познакомился со случайной девушкой на танцах и незаметно прожил с нею всю жизнь. Случайную жизнь со случайной женщиной и случайной работой…
– Я тут недавно прочитал одну книгу, она так и называется: «Работа». Журналист собрал рассказы американцев о своей работе. Там были металлург, стюардесса, профсоюзный деятель, детектив, сборщик автомобилей, официантка, уборщик мусора и много других. Реальные жизненные истории людей разных национальностей, социального уровня, образования. В полной дословности, с сохранением лексики, лишь с небольшими комментариями. Поразительная сила жизненной правды! Но меня больше всего удивило отношение американцев к своей работе. И как ты думаешь, какое?
– Ну, американцы известны своей деловой активностью. Работают много и хорошо. У них высокая производительность труда…
– Американцы ненавидят свою работу!
– Да ну?!
– Большинство занимается тем, за что им платят деньги, а не тем, чем хотели бы. Только несколько из опрошенных положительно отозвались о своей работе. Кажется, это были хоккеист, стюардесса и официантка. Там интересно описана история курьера одной чикагской газеты. Он рассказывает, что раньше работал в разных местах, но больше всего ему понравилось в какой-то социальной организации. У него там не было конкретных обязанностей, он просто получал деньги и жил на них. Он не хуже других справлялся с этой работой, но его все равно уволили. Тогда он устроился курьером в редакцию. Он пришел туда с позитивным настроем, делился с сотрудниками своим духовным опытом и угощал натуральной пищей: орехами, изюмом, семечками. Он ходил по комнатам и убеждал людей задуматься о смысле своей жизни. Но скоро выяснилось, что коллектив погряз в эгоизме и конформизме. Его гоняли по редакции и по городу с бессмысленными поручениями и не разделяли его прогрессивных взглядов. Не всем нравилось, что он в рабочее время сидел на полу и предавался медитации. А начальник прямо спросил: что это за омерзительное пугало?