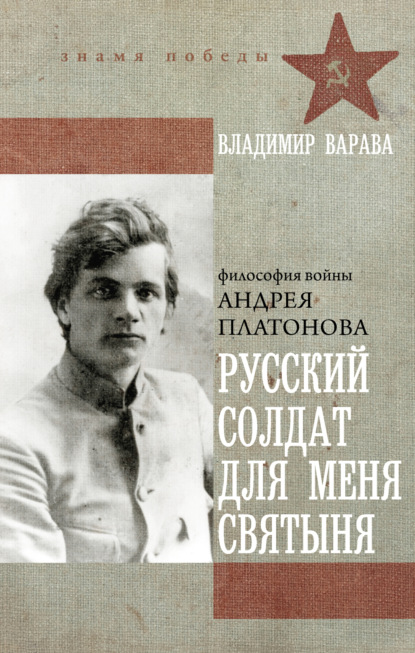Полная версия
Несмолкающая батарея
– Он всё понимает, – сказал Симагин.
– Понимаю, – сказал Навруцкий.
– Вот в это время будешь представителем в миномётном взводе, не возражаешь?
– Почему я должен возражать, если это надо для дела? – пожал плечами Навруцкий.
– Ну вот и славно, – обрадовался Терентьев.
– Его бы лучше к старшине в обоз определить, – не унимался Симагин. – Вот он бы там попредставлял.
– Ладно тебе, – отмахнулся Терентьев и поглядел на часы.
Это были великолепные спортивные часы с чёрным циферблатом, фосфоресцирующими стрелками и цифрами, не боящиеся ни воды, ни ударов. Володя очень гордился этими часами. Их подарил ему начальник укрепрайона, старый генерал, когда вручал первый орден.
До начала боя оставалось пять минут. Через пять минут в небе разорвётся бризантный снаряд. Это послужит сигналом тридцатиминутному артиллерийскому и авиационному штурму переднего края немцев. Потом огонь орудий, миномётов и авиации перенесётся в глубь фашистской обороны, по переднему краю продолжат бить беглым огнём только пушки прямой наводки, а стрелковые батальоны пойдут справа и слева от роты Терентьева на штурм немецкого укреплённого узла.
Одному из батальонов надо будет преодолеть противотанковый ров, а другому – заболоченный кустарник и чистенький сосновый лесок. Потом они навалятся с двух сторон на укреплённый узел немцев, расположенный перед ротой Терентьева, и раздавят его дружно, враз.
После этого, по разработанному в штабе полка и утверждённому штабами дивизии и армии плану, батальоны вновь расходятся вправо и влево, чтобы штурмовать другие немецкие укреплённые узлы обороны. Однако делают они это лишь после того, как согласно тому же плану, разработанному полковыми штабистами, на занятый плацдарм вступит тяжёлая, малоподвижная, но обладающая большой огневой мощью рота Терентьева. По плану она должна предоставить батальонам свободу действий, прикрывая их своим огнём и отражая возможные контратаки немцев в тыл или во фланги батальонам. Одним словом, с выходом роты Терентьева батальоны получали тактический простор и неограниченную свободу действий.
Планом было предусмотрено и учтено (как это, впрочем, бывает и в иных планах) решительно всё, кроме тех незначительных и мелких, на первый взгляд, подробностей и случайностей, которые при всём усердии штабных офицеров учесть совершенно невозможно, но которые неизбежно возникают в ходе боевых действий и порою ставят всё с ног на голову.
Итак, до начала движения ещё ночью занявших исходные рубежи батальонов оставалось тридцать пять минут.
– Пойдёмте посмотрим, послушаем, – сказал Терентьев и впереди всех лёгкими, пружинящими шагами, чувствуя силу, молодость, свободную радость во всём теле, поднялся по обшарпанным ступеням подвала и выбежал во двор.
Следом за ним поднялись и другие офицеры.
На улице было так ясно, солнечно, тепло и тихо, как бывает только весенним погожим утром.
Навруцкий, стоя рядом с Терентьевым и стараясь казаться тоже очень отчаянным, храбрым человеком, принялся с деланной неторопливостью протирать трясущимися пальцами очки. Дело в том, что он впервые за всю свою военную деятельность принимал непосредственное участие в наступлении.
– Ну, – сказал Терентьев, посмотрев на циферблат часов, – ну, – повторил он, уже глядя в небо, и тут же, словно повинуясь его требованию, там, в лазоревой голубизне, возник фиолетовый шарф разрыва, а следом за ним и сам звук разрыва, и чуть позднее – выстрел, где-то сзади, за спинами офицеров.
И сразу по всему переднему краю загудело, засвистело, заухало, и почувствовалось, как затряслась под ногами земля, и эта тряска ощутилась ещё сильнее, когда низко, тройками, прошли ревущие штурмовики и весь передний край немцев окутался пылью и дымом разрывов.
Они ещё немного постояли, сгрудившись и слушая и видя, что там, у немцев, делается сейчас.
Скоро противник начал отстреливаться, торопливо и беспорядочно, и когда один из снарядов взорвался во дворе, обсыпав офицеров комьями грязи, Терентьев, отряхиваясь, сказал:
– Пошли в укрытие. – И Навруцкий очень заторопился и как-то радостно засуетился при этих словах, но никто не обратил, казалось, на его поведение никакого внимания, только один Симагин засмеялся, и все, не спеша и не толпясь, степенно последовали вслед за скатившимся по каменным ступенькам Навруцким в подвал.
8Сидели на нарах, курили, прислушивались к гулу канонады. Иногда подвал вдруг вздрагивал, будто в ознобе, и за шиворот находившимся в нём людям сыпалась земля. Это неподалёку разрывался шальной ответный немецкий снаряд.
Но вот наконец над головой всё стихло. Стало быть, артиллерийская подготовка завершена, в дело вступили стрелковые батальоны и пошли на штурм немецких позиций.
«Теперь ещё немного, и наступит наш черёд», – думал Терентьев. И несмотря на то, что давно уже было предусмотрено и распределено, в каком порядке выступят пулемётные взводы, когда поднимутся миномётчики и снимутся с позиций дивизионки, несмотря на то, что оставалось лишь ждать своего часа, Терентьева, как всегда с ним бывало в подобных обстоятельствах, охватило острое беспокойство. Он нахмурился. Ему вспомнилось, что накануне звонил начальник штаба батальона и между прочим сказал: «Береги людей. Это же последние дни, понимаешь?» Он это понимал. Но как можно было всех их уберечь от несчастья, увечий и, быть может, от самой смерти? Кто ему скажет – как? А он любил их всех, включая незадачливого солдата Ефимова. И как ему самому хочется, чтобы все они дожили до победы!
А время шло.
Вот уже больше часа минуло, как тронулись стрелковые батальоны, а Терентьеву никаких приказаний не поступило. Он взял у телефониста трубку и позвонил в первый взвод, стоявший в центре обороны, несколько выдвинутый, вроде боевого охранения, вперёд. От этого взвода до немцев было ближе всего.
– Как там противник? – спросил он у командира взвода.
– Нормально. Постреливает, – ответил тот.
– А наши?
– Да их сам чёрт не разберёт, что они там делают.
Терентьев вернул трубку солдату.
А на переднем крае тем временем происходило вот что.
Тридцатиминутный шквал артиллерийского, миномётного и бомбового огня, который всё по тем же, старательно, со всеми подробностями разработанным в штабах полка, дивизии и армии планам должен был подавить, уничтожить, разнести вдребезги все находившиеся в зоне этого шквала немецкие блиндажи, доты, дзоты, наблюдательные и командные пункты, огневые площадки пулемётов, миномётные и артиллерийские батареи, на самом деле был очень мощным шквалом. Артиллеристы, миномётчики и лётчики-штурмовики сделали своё дело, привели немцев в смятение, разрушили и блиндажи и НП, разогнали или убили и ранили прислугу миномётных пушечных батарей. Но всего этого казалось недостаточно. Когда орудийный гул смолк и в точно указанное время в действие вступила пехота, противник успел прийти в себя, оправиться от замешательства и паники, и многие из тех огневых точек, дотов и дзотов, которые по плану должны были быть стёрты с лица земли, ожили, и противник встретил наступающих сильным огневым заслоном.
Вот почему к назначенному штабными офицерами сроку укреплённый немецкий узел не был взят и рота капитана Терентьева не вступила в него.
Батальон, шедший справа, не смог преодолеть простреливаемый немецкими пулемётами противотанковый ров. Роты вынуждены были залечь на подступах, растеряв при этом все подручные средства, изготовленные для форсирования рва, и неся большие потери убитыми и ранеными. Сам комбат, адъютант батальона и несколько других офицеров были ранены и эвакуированы в тыл. Командование батальоном принял один из командиров роты, спешно пытаясь привести в порядок расстроенные подразделения.
Тот батальон, который наступал слева и должен был, соответственно плану, легко преодолеть заболоченный кустарник и сосновый лесок, встретил вдруг искусно заминированные завалы и протоптался возле них не положенное ему на это время.
Когда завалы были разминированы и солдаты стали выбегать из насквозь просвечиваемого утренним солнцем леска на опушку, им во фланг ударили тяжёлые крупнокалиберные пулемёты, и немцы, успевшие к тому времени разгадать намерения нашего командования, бросили против этого батальона в контратаку довольно крупные силы автоматчиков. Это не было предусмотрено планом. И хотя контратакующих удалось остановить и заставить их залечь, батальон, однако, из леса к назначенному сроку так и не выбрался.
Следовательно, всё пока выходило не так, как предполагалось.
Тем не менее план должен был быть выполнен во что бы то ни стало, поскольку он являлся хотя и небольшим, но всё же определённым звеном в цепи общего продвижения наших войск в глубь Германии. Поэтому, когда истекли все сроки, из штаба армии – в штаб дивизии, из штаба дивизии – в штаб полка, из штаба полка – в батальоны полетел грозный запрос: почему до сих пор не занят укреплённый узел немцев, именуемый в плане площадкой Фридлянд? Почему батальоны топчутся на исходных рубежах и не атакуют?
Командующий армией во время разговора по телефону с командиром дивизии как бы между прочим заметил, что его дивизия уже несколько раз являла собой пример неуверенного поведения, если встречала даже малозначительное сопротивление немцев.
Командир дивизии, старый, с больной печенью генерал, не остался в долгу и накричал, в свою очередь, на командира полка, что тот срамит боевую славу дивизии и что, если в течение тридцати минут от него не поступит донесения о взятии площадки Фридлянд, он будет отстранен от командования полком.
Однако какими бы ироничными или грозными ни были переговоры высших начальников и запросы штабов, батальоны по-прежнему никак не могли выполнить своей задачи. Один из них безуспешно топтался возле противотанкового рва, а другой, вместо того чтобы давно уже быть на площадке Фридлянд, вынужден был отражать яростные контратаки немцев на опушке леса.
Так прошло ещё около часа. И вдруг из батальона, который никак не мог выбраться из леса, поступило донесение: батальон ворвался в траншеи площадки Фридлянд, ведёт рукопашный бой, немцы бегут, захвачены пленные, трофеи.
Это донесение, вызвавшее в штабе полка всеобщее облегчение, незамедлительно было передано в дивизию, а из дивизии – в армию.
– Наконец-то, – сказал командующий армией, когда ему доложили о взятии площадки Фридлянд. – Передайте, чтобы поспешили с выполнением дальнейших задач. Скажите, чтобы впредь не задерживали общего продвижения. Укрепрайону немедленно занять площадку Фридлянд.
Вот как развивались события в то памятное солнечное апрельское утро, когда в подвале разрушенного помещичьего дома, в котором томился от безделья Терентьев со своими людьми, зазуммерил телефон и связист, подув по привычке в трубку, поспешил отозваться:
– «Скала» слушает. «Скала» слушает.
Все тотчас насторожились. Было ясно – звонили с КП батальона.
9Терентьев взял трубку.
– Ты ещё на месте? – услышал он равнодушный голос майора Неверова.
– На месте, – вздохнул Терентьев.
– Почему?
– Потому что на площадке Фридлянд всё ещё находятся немцы.
– Там нет уже немцев, – твёрдо и убеждённо возразил Неверов.
– Это неправда, – горячо запротестовал Володя. – Я недавно запрашивал Краснова. Он сказал, что немец на месте, как всегда. Стреляет помаленьку.
– «Помаленьку», – передразнил Неверов. – Ты лучше сам выберись из своей норы и посмотри, а то совсем заспался: полчаса уже прошло, как наши стоят перед тобой вместо немцев.
– Но это неверно, – волнуясь, настаивал на своем Терентьев.
Он принялся объяснять комбату, что действительно только что в третий раз говорил по телефону с командиром первого взвода лейтенантом Красновым и тот вновь подтвердил, что враги на месте.
– Подожди, не трещи, словно сорока, – по обыкновению не спеша, нисколько не повышая голоса и в то же время властно прервал его торопливые и страстные объяснения Неверов. – О том, что площадка Фридлянд занята нашими подразделениями, я должен был в первую очередь узнать от тебя, а получается, как это ни странно, что узнаю из штаба армии. Вы там что, спите все в своём бункере или в домино режетесь, вместо того чтобы следить, как положено, за боем?
– Не спим и не режемся, а ждём вашего приказа. – Терентьев начал злиться.
– Мы потом об этом с тобой ещё поговорим, – всё тем же невозмутимо-ровным голосом сказал Неверов. – А теперь слушай мой приказ и выполняй: немедленно вступить всей ротой на площадку Фридлянд и занять, согласно ранее данным указаниям, круговую оборону. О выполнении задачи доложишь по рации в одиннадцать ноль-ноль.
– Но там немцы! – закричал Терентьев. – Вы понимаете – там немцы!
– Там нет немцев. Сколько раз тебе говорить? Там наши войска, не бойся. Об этом даже командующий армией знает, только ты под носом у себя ничего не видишь. Выполняй приказ. А не выполнишь – пеняй на себя. – Он помолчал. – За невыполнение знаешь что бывает?
– Знаю.
– Тогда у меня всё. Бывай здоров и пошевеливайся.
Терентьев отдал трубку телефонисту, подпёр разгорячённую голову кулаками и, посвистывая (он всегда это делал, если соображал что-нибудь), задумался. В голову ползли чёрт знает какие отвратительные мысли.
– Ну, что он наговорил? – прервал его размышления Симагин.
Терентьев глянул на него, потом на свои часы.
– Приказано вступить в Фридлянд. Через сорок минут доложить.
– Он что, очумел? – Симагин тоже задумался, сдвинул пилотку на самые глаза, всей пятернёй почесал затылок и, что-то, видимо, придумав, оживился.
– Ну-ка, вызови мне Краснова, – сказал он телефонисту.
Лейтенант Краснов, круглолицый, румяный весёлый малый, и кудрявый озорной старший лейтенант Васька Симагин были такими верными друзьями, про которых обычно говорят, что их водой не разольёшь. Прежде всего они оба очень любили, как говорил Симагин, подзаняться прекрасным полом. Стоило роте попасть в какой-нибудь населённый пункт, не покинутый жителями, и задержаться в этом пункте хотя бы на один вечер, как дружки, в мгновение ока сориентировавшись, уже резвились на посиделках или степенно распивали чаи в гостях у стосковавшихся по мужской ласке вдовушек. Попробовали они было «подзаняться» и с Наденькой, но, сразу же получив решительный отпор, махнули на неё рукой. Симагин сказал, что она нисколько не смыслит в жизни, так как ещё малолеток.
– Здорово! – кричал теперь Симагин в трубку своему закадычному дружку. – Как жизнь?
– Здорово! – обрадованно орал в ответ Краснов. – Что долго не заходил?
– Сегодня приду. Как немцы?
– Сидят на месте.
– Ты точно знаешь?
– Сейчас только обстреляли из пулемёта.
– Не врёшь?
– Как перед святой Марией.
Терентьев, прислушиваясь к вопросам, задаваемым Симагиным, и ещё не зная, что отвечает ему Краснов, вдруг подумал: а быть может, на площадке Фридлянд в самом деле наши? Ах, если бы так оно и было! Если бы майор Неверов оказался прав, если бы Краснов сейчас подтвердил его правоту! Всё бы разом встало на своё место, и ни к чему было бы так волноваться, и какая тяжесть свалилась бы с плеч долой!
– Бой был? – спрашивал меж тем Симагин. – Что значит – нормально? Говори точнее. Справа? Слева? Был давно, а сейчас никакого боя и всё тихо? Ну бывай. Всё тихо, – повторил он, поглядев на Терентьева. – И немцы, заразы, на месте.
Терентьев не ответил. Он глядел на часы. На дёргающуюся по кругу циферблата секундную стрелку. Нахмурясь, он лихорадочно думал, как ему поступить.
Положение, в котором он вдруг очутился, было ужасным. Ему предстояло выполнить явно ошибочный приказ, повести роту на расстрел. Да, на расстрел. Только так, в полный рост, можно было двинуться на площадку Фридлянд со станковыми пулемётами, патронными коробками и цинками, миномётными плитами и стволами, ящиками с минами, с дивизионными и противотанковыми пушками.
Рота обрекалась на бессмысленную гибель. Погибнет, конечно, и он, Володя Терентьев. Но ради чего должны гибнуть люди в эти последние весенние дни войны и должен погибнуть он вместе с ними? Впрочем, будет хуже, если он останется в живых. Не кто-нибудь другой, не Симагин, не Неверов, а он, Терентьев, станет держать ответ за бессмысленную гибель роты. К нему, разумеется, отнесутся со всей строгостью военных законов. Его сразу же разжалуют в солдаты, предадут суду, а там – непременно отправят в штрафной батальон. И этот позор, этот ужас падёт на его голову в то самое время, когда до окончания войны осталось всего, быть может, несколько дней, неделя! Когда ещё немного, и он встретился бы с женой, которую так любит и ради которой готов сделать невесть что. Боже мой, конечно же, бессмысленную гибель людей ему никто не простит. Но это ещё не все. Это не главное. Страшнее то, что он сам никогда не простит себе этого. Вот что важнее и страшнее всего: сам не простит себе.
Но как же быть? Как поступить ему сейчас?
Ясно одно: он не может, не имеет права не выполнить приказ старшего начальника. Приказы не подлежат обсуждению. Следовательно, через сорок минут, нет, уже меньше – через тридцать четыре минуты, если ему суждено остаться за это время в живых, он обязан доложить майору Неверову, своему непосредственному начальнику, о том, что рота… Что – рота? Вступит на площадку Фридлянд? Но он не имеет права делать этого: вести людей на верную, бессмысленную смерть. Не имеет права и никогда этого не сделает, и приказ начальника не будет в таком случае для него оправданием. Он не поднимет роту и не поведёт её, совершенно не приспособленную к наступательному бою, на вражеские пулемёты, чтобы немцы делали с его ротой всё, что им захочется. Но, таким образом, он не выполнит приказа старшего начальника. А за это его всё равно ждёт военно-полевой суд, разжалование в рядовые и отправка в штрафники. Кто-кто, а он-то прекрасно знает, что майор Неверов так и поступит: с тем же завидным спокойствием и хладнокровием, с каким не однажды представлял Володю к правительственным наградам, теперь, не колеблясь ни секунды, отдаст его под трибунал.
Но как же быть ему в таком случае? Скорее надо решать, Володя, скорее. Время бежит. Гляди, осталось всего тридцать минут. Ах, если бы ему сейчас дали хотя бы взвод автоматчиков! Как бы лихо они метнулись на вражеские окопы! Но что об этом думать. Нет у него автоматчиков. И негде взять. Надо позабыть про автоматчиков, выкинуть из головы. Требуется выполнить приказ. Ты обязан его выполнить, а не можешь. Вот что сейчас главное – обязан, а не имеешь права.
В подвале было тихо. Все с тревогой и надеждой смотрели на Терентьева, который один должен был решить, как и что делать им. Ждали его последнего слова Симагин, Валерка, Надя, Навруцкий, командир батареи, командир взвода ПТР, военфельдшер, телефонисты, артиллерийские разведчики.
Но вот он наконец поднялся из-за стола. И сказал несколько устало, печально и в то же время очень решительно:
– Ладно. – И вздохнул. – Мы идём выполнять приказ, – тут помолчал, оглядел всех присутствующих, – вдвоем с Валеркой. Слушай внимательно, Симагин. Ты остаёшься за меня. Если немцев там нет, если там наши, тебе об этом сообщит Валерка. Поднимай роту, как намечено. Понял?
– Есть, – сказал Симагин. – Сделаем.
– Ну, а если немцы там… – Терентьев опять помолчал, опять поглядел на всех отрешённым и усталым взглядом. – Доложишь о том, что я выполняю приказ. Одним словом, не поминайте лихом. Вот так. – Он одёрнул гимнастёрку, расправил её под ремнем, застегнул пуговку воротника и, уже обращаясь к ординарцу, сказал: – Забирай побольше гранат.
– Я сейчас, – засуетился побледневший ординарец.
– Не мельтеши ты, – сказал Терентьев, принимая от него автомат и засовывая в карманы брюк и вешая на поясной ремень гранаты. – Знатный будет кегельбан. Ты слышал такие стихи? Пошли.
Все поднялись следом за ними во двор, даже дежурный телефонист, и долго, в тягостном молчании смотрели вслед.
А на улице было солнечно, тихо, тепло и не слышалось никаких выстрелов – ни автоматных, ни пулемётных, ни орудийных, и стороннему человеку показалось бы, что ничего удивительного и трагичного нет в том, как скорым шагом уходят в сторону переднего края два человека с автоматами на плечах: командир роты и его ординарец. Ведь, по сути говоря, вот так уходили они отсюда на передний край за эти десять дней не один раз. Уходили и возвращались. И тем не менее в том, что они уходили сейчас, был уже совсем иной, чем обычно, тревожный и значительный смысл.
– Пошли, – неопределённо сказал Симагин.
Навруцкий снял очки и начал старательно протирать их полой гимнастёрки. Он был сентиментален, этот добрый, доверчиво, без разбора льнувший ко всем людям парень. А Надя, отчаянно помотав головой, жалобно вскрикнув, закусив губу, убежала в подвал.
10Тёплый весенний денёк разгорался и в том русском городке, который был расположен в лесной глухомани, и до него, даже в самые ненастные для нас дни, когда немцы стояли под Москвой, не долетало ни одного фашистского самолета. В этом городке некогда узнавал кавалерийскую науку стройный, чернобровый курсантик Володя Терентьев, а сейчас жила-поживала горячо им любимая супруга Юленька – курносая, бойкая дамочка.
Городок был старинный, с собором и купеческими лабазами на главной площади, улицы имел широкие, просторные, дома – почти сплошь деревянные – утопали в садах и палисадниках. Жили здесь степенно, неторопливо, любили по вечерам пить чай с черносливом и монпасье, а по воскресеньям – сидеть возле калиток на лавочках и обсуждать всякие происшествия.
В начале войны тишина городка была встревожена мобилизацией в армию, а позднее – приездом эвакуированных. Кроме того, две городские школы заняли под госпитали, а на окраине, в наспех сооружённых корпусах, разместился, задымил железными, на растяжках, трубами механосборочный завод. Он только назывался так, для конспирации, а на самом деле в его цехах создавались батальонные и полковые миномёты, мины для них, противопехотные и противотанковые гранаты и ещё кое-что посложнее.
Поселились временные жильцы – ленинградка с двумя ребятишками – и в доме Володиной жены. Юля, встретив будущих жильцов возле калитки, вдруг, подбоченясь, заартачилась: дом, мол, принадлежит фронтовикам, её муж и отец воюют, она сама, в конце концов, сотрудник милиции, и никто не имеет права вселять в этот дом посторонних людей. Однако мать её, тётка Дарья, так глянула на дочь, что Юля сразу прикусила язык. Ни слова ей не сказав, тётка Дарья взяла на одну руку худенькую испуганную девочку, тесно прижала её к пышной груди, другой рукой подхватила увязанный ремнями чемодан и грузно поднялась на крыльцо, пинком распахнув дверь. Следом за ней вошла ленинградка, мальчик и после всех – злая, но молчаливая Юля.
Эвакуированные и теперь всё ещё жили у них, хотя блокаду с Ленинграда давно уже сняли и можно было бы свободно уезжать домой. Однако ленинградка не спешила возвращаться: ехать было некуда и не к кому. Жилище их разбомбили фашисты, а от главы семьи, фронтовика, не было ни слуху ни духу.
Жиличка, не в пример Юленьке, была сдержанна, малословна, работала на механосборочном, растила детей и терпеливо ждала вестей от мужа. Она исступлённо не верила в то, что он убит, попал в плен или пропал без вести, просто думала, что никак не может их найти, и настойчиво писала запросы во все газеты, на радио, знакомым и в Бугуруслан.
У Юленьки был совсем другой – весёлый характер. К тому же беспокоиться ей было нечего, Володя писал, как говорят, без устали, без передыху и всё время объяснялся в любви.
Нынче было воскресенье, ни Юленька, ни ленинградка не работали и, попив чаю, вышли посидеть на лавочке. Юленька томилась и млела: весенние запахи возбуждающе действовали на неё. Глядя в голубое безоблачное небо, поправив на высокой, красивой шее газовую косынку, она задумчиво, нараспев сказала:
– Мне один майор из госпиталя предлагает с ним жить, – и смутно, загадочно улыбнулась. – Симпатичный такой дядечка, пожилой.
– Ну и что же ты? – спросила ленинградка.
– Не знаю. Ещё не решила что. Как бы ты посоветовала мне?
– Я плохая тебе в этом советчица.
– Потому что бесчувственная. У тебя нет никакого чувства. Ведь весна, пойми, и проходят годы.
– У тебя муж. Он такие письма пишет тебе!
– Муж от меня никуда не уйдёт. Он вот у меня где, – с этими словами Юленька показала ленинградке энергично сжатый кулачок. – А потом, ещё война идёт и ничего не известно.
– Юлька, не бесись, – сказала тётка Дарья, стоявшая на крыльце и слушавшая весь этот разговор. – В кого ты такая взбалмошная да бесстыдная?
– В вас, – огрызнулась Юленька.
– Цыть! – закричала тётка Дарья. – Такого мужа, как Володя, на руках должна носить, а она вона что выдумала, бессовестница!
– Это он меня будет носить, учтите.
– Вот я напишу ему, чтоб знал, какая у него жена, – не унималась тётка Дарья.