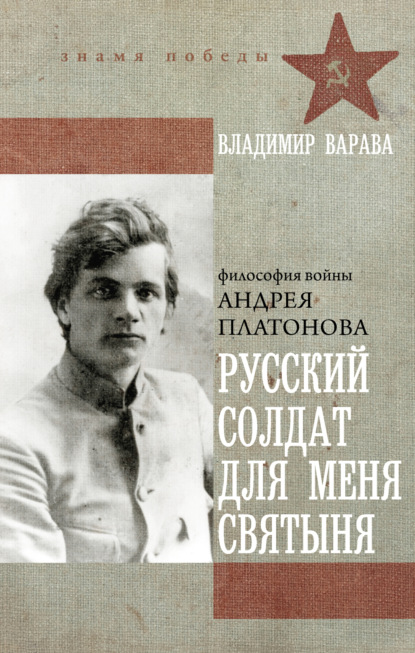Полная версия
Несмолкающая батарея
Вдобавок ко всему, как назло, пошёл дождь, сильно и вдруг потеплело, дороги всего лишь за сутки стали непролазными, и старшина Гриценко где-то далеко и беспомощно увяз со своим санным обозом.
А в обозе было всего вдоволь: снарядов, мин, хлеба, сахара, мяса, крупы.
Из-за распутицы вышло так, что рота за целый день марша не получила ни крошки. Поздно вечером встали на привал в покинутой жителями деревне. Капитан Терентьев был очень огорчён, что рота не накормлена, и зол на старшину. Так страшно, жестоко зол, что, появись сейчас перед ним Гриценко, Терентьев, кажется, залепил бы ему пощёчину. На КП собрались офицеры. Молча, уныло докуривали последние крохи табака, слушали попискивание рации, радист налаживал связь со штабом батальона, находившегося неведомо где. И тут Валерка, тихонько тронув капитана Терентьева за рукав, заговорщически поманил его за дверь.
– Что ты ещё? – недовольно спросил Терентьев, однако нехотя вылез из-за стола, на котором была разостлана карта и коптила самодельная лампа: её Валерка всюду таскал с собою в вещевом мешке.
Вышли в соседнюю комнату.
– Вот, – торжественным шёпотом проговорил Валерка, плотно прикрыв дверь и для верности подперев её спиною. – Поешьте, а я покараулю.
И с этими словами он извлёк из противогазной сумки, висевшей на плече, флягу и три великолепных сухаря.
– Это что такое? – удивился капитан.
– Энзе, – с гордостью, самодовольно ответил ординарец.
Терентьев понянчил на ладони флягу.
– Водка?
– Она самая. – Валерка загордился пуще прежнего.
– Где взял? – Терентьев нахмурил брови.
– Моя. Я же не пью. Для вас собрал. Семьсот граммов.
– Ладно. Пускай так. А сухари?
– Старшина, как тронулись в поход, выдал на всякий случай, чтобы вас подкормить.
– Много?
– Ешьте, ешьте, вам хватит, – великодушно ответил щедрый Валерка.
– Я спрашиваю – сколько? – повысил голос капитан.
– Восемь штук. Самые отборные.
– Давай сюда все.
Валерка суетливо схватился за сумку, передёрнул её с бока на живот и, ещё не догадываясь, для чего понадобились командиру сухари, отдал их Терентьеву.
– Пошли, – сурово сказал командир.
Отстранив Валерку, он решительно распахнул дверь.
– Вот, – сказал он, кладя сухари и флягу на стол. – Сейчас буду всех вас кормить и поить. По манерке водки и по куску сухаря на рот. Поскольку рядовой Лопатин не пьёт, а он мой ординарец, то его порция водки переходит ко мне. Не возражаешь? – спросил он у Валерки.
– Н-нет, – сказал Валерка, с ужасом думая: «Сейчас все мои сухари сожрут за милую душу. Вон как вытаращились на них. И никому ведь не придёт в голову, что мне как пить дать попадёт за это от старшины. “Растяпа, – скажет старшина. – Я тебя чему учил? Я тебя учил накормить командира: хоть бы к чёрту на рога попадёте с ним, командир и там должен быть накормлен. Ай-яй-яй. Какой же ты есть ординарец?” Вот как нацелились, словно волки».
Тем временем капитан Терентьев разломил каждый сухарь на две доли и, отвинтив крышку фляги, налил в ту крышку водки.
– Подходи по очереди, не толпясь. Командир первого пулемётного взвода, получай… Командир батареи, причащайся…
Капитан Терентьев повеселел, стал дурачиться. Повеселели заодно с ним и те, что находились в этот час в комнате. Чёрт возьми! Дело ведь было не в глотке водки и не в куске сухаря, а в чём-то другом, более значительном и важном, чего никто из присутствовавших не мог и не стремился объяснить себе. Просто людям стало весело, мигом исчезло угнетавшее их уныние, и пусть теперь всё идет прахом, можно хоть сейчас вновь подниматься в поход по весенней распутице, опять на все сорок километров, дать бы ещё только солдатам по такому вот ломтю сухаря, по манерке водки, да чтоб увидели они таким вот своего командира.
Все задвигались, загомонили, перебивая и почти не слушая друг друга. В комнате стало шумно, а капитан Терентьев знай покрикивал:
– Командир взвода ПТО – получай, телефонист – получай, радист – получай, рядовой Лопатин… Ты чего невесел? – спросил он у переминавшегося с ноги на ногу рядом с ним Валерки. – Жалко сухарей?
Валерка вздохнул, потупясь.
– Ну, – настаивал командир. – Говори, жалко?
Валерка и на этот раз только вздохнул.
– Забирай свою порцию, – усмехнулся Терентьев, – а вот эту отнесёшь часовому. Постой, – остановил он уже повернувшегося было Валерку. – А где твой противогаз?
– А я его, ещё когда двинулись в поход, выбросил, – беспечно сказал Валерка.
– То есть как выбросил? – нахмурился капитан. – Боевое снаряжение выбросил?
– Сухари не в чем было нести.
– Та-ак, – угрожающе протянул командир.
В комнате наступила тишина.
– Ну вот, – Терентьев постучал кулаком по столу, – чтобы противогаз у тебя был. Иначе пойдёшь в штрафную роту.
– Будет, – сказал Валерка дрогнувшим от обиды голосом. – В бою добуду.
– Иди, – махнул рукой Терентьев и обратился к офицерам: – Сейчас же проверить у бойцов наличие противогазов и доложить… – он посмотрел на часы, откинув обшлаг гимнастёрки, – в двадцать…
Тут дверь распахнулась, и на пороге, нетерпеливо постукивая кнутом по голенищу облепленного грязью сапога, встал Гриценко, огляделся, увидел капитана, поправил на боку сумку и, приложив руку к шапке, хрипло рявкнул:
– Прибыл!
– Всем обозом? – быстро и радостно спросил Терентьев, вмиг забыв о том, что ещё минуту назад был неимоверно зол на старшину.
– Никак нет. Одними санями. Четыре лошади впряг и прибыл.
– Что привёз?
– Хлеб, сахар, табак, сало, консервы и гороховый концентрат, – загибая пальцы и вопросительно глядя в потолок, перечислил старшина.
– В чём же солдаты будут варить твой концентрат? – спросил капитан.
– Найдут. В котелках сварят. Нашему солдату только дай что сварить, а в чём варить, он враз сообразит. – Старшина обернулся к взводным, прохрипел: – Давайте, товарищи командиры, присылайте людей. У меня время не ждёт, обратно надо торопиться.
– Где голос потерял? – спросил Терентьев, когда офицеры, толпясь и подталкивая друг друга в дверях, покинули комнату.
– Много, видно, на лошадей да на ездовых орал, вот и осип, – признался Гриценко. И тут же беспечно заверил: – Пройдёт, на то я и старшина. – И пристально посмотрел на Валерку.
Тот сразу понял его взгляд и обиженно отозвался:
– Как же, накормишь его! Он все сухари и всю мою водку роздал.
– Вот растяпа! – всплеснул руками Гриценко. – Я тебя как учил? Хоть у чёрта на рогах…
– И ещё добавь, – сказал Терентьев, – что тебе будет, если ты не найдёшь противогаз.
– А, это пустое, товарищ командир, – заступился за Валерку старшина. – Осмелюсь доложить, противогаз мы найдём. В бою их до чёртовой матери наберётся, этих противогазов.
– Да я уж и говорил, – сказал ему Валерка.
Старшина по-отечески похлопал ординарца по спине и направился к выходу.
Валерка, воспрянув духом, с благодарностью посмотрел вслед своему наставнику.
Противогаз они, как и обещал Валерка командиру, добыли в первом же бою, через неделю.
5– Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь, – ворчит старшина Гриценко на телефонистов и разведчиков. – Никак проснуться не можете. Ползаете возле кухни, словно воши, а мне надо успеть ещё целую роту накормить.
Старшина говорил неправду. Он уже накормил и артиллеристов, и миномётчиков, и теперь оставалось раздать завтрак лишь четырём пулемётным взводам да пэтээровцам, рассредоточенным с их длинными ружьями между пулемётчиками по всему переднему краю, занимаемому ротой. К тому же, если учесть, что во взводах, стоявших отдельными гарнизонами по высоткам, насчитывалось всего по десять – двенадцать человек, то, стало быть, накормить их для старшины не стоило никакого труда.
Но вот налили последнюю кружку чаю, захлопнули, завинтили крышки кухонь, ездовые разобрали вожжи, повара вскочили рядом с ними на облучки, старшина и каптенармус поспешно повалились животами на тронувшуюся повозку, и повозка, запряжённая парой гнедых ротных ветеранов, управляемых самым вежливым в батальоне солдатом, а следом за ней обе одноконные кухни покатили со двора и скрылись в сумраке предутреннего часа.
Капитан Терентиев постоял в опустевшем дворе, послушал стук удаляющихся колес, и этот безобидно-мирный стук в тишине взволновал его, и он ясно, отчётливо вспомнил, как мальчишкой, точно в такие же свежие, предвещающие большой солнечный день, несущие для тебя предчувствие необыкновенного, светлого праздника, утра любил возить на просыхающие поля навоз, шибко катить оттуда, с полей, порожняком по мягкому проселку, подпрыгивая и сладко трясясь на дощечке, положенной поперёк телеги, вымазанной и пропахшей коровьим навозом и прелой соломой.
О, какими счастливыми, ни с чем не сравнимыми были эти весенние времена с душисто и густо парящей землёй, с высоким тёплым небом, мягким ветерком и победным звоном жаворонка над Володиной головой. В такие дни как бы обновлялось всё его существо от макушки до пяток, прибывало силы, беспредельной и беспечной веры в то, что всем его желаниям легко сбыться, что всё будет хорошо, отлично, и он очень много успеет сделать столь же необыкновенного, радостного, удивительного и доброго на земле.
Так было с ним каждую весну, такое ощущение охватило его и сейчас, в это раннее утро последнего военного апреля, когда всем уже ясно, что до полного разгрома врага осталось очень немного, быть может, всего несколько дней, что победа, к которой так трудно и долго шли, совсем рядом.
Давно смолк, растаял в тумане стук колёс, и как бы на смену ему, чтобы вернуть Терентьева к действительности, уже дважды, глухо, сердито, длинными очередями, простучал тяжёлый немецкий пулемёт, потом опять всё стихло, а капитан Терентьев продолжал стоять посреди двора, улыбаясь охватившим его мыслям.
Светало. Из подвала выглянул Валерка.
– Товарищ капитан, вас к телефону, да и завтрак стынет.
Звонил командир батальона майор Неверов, очень строгий и взыскательный начальник. Он слыл педантом и вдобавок к этому человеком, не понимающим шуток. Очевидно, поэтому он улыбался чрезвычайно редко и то так, словно всякий раз совершал болезненное усилие, с великим трудом на какую-то долю секунды растягивая в подобие улыбки тонкие, злые губы. Словом, майор Неверов был прямой противоположностью подвижному и легко поддающемуся настроению капитану Терентьеву. Неверов был невозмутимо спокоен во всех обстоятельствах и казался много старше Терентьева, хотя разница в возрасте у них была довольно невелика – всего четыре года. Одно лишь являлось для них общим, чего не надо было занимать им друг у друга: храбрость. Только капитан Терентьев был храбр лихо, с бойкой мальчишеской дерзостью, с азартом, и она, эта его храбрость, всегда была красива и всем бросалась в глаза; а майор Неверов и здесь оставался самим собой и всё свершал с таким завидным равнодушием, неторопливостью и спокойствием, словно то, что происходило вокруг, не имело к нему никакого отношения, и это не он, к примеру, а кто-то другой не торопясь идёт под вражеским огнём, словно на прогулке. Замечено было также, что за всю войну он ни разу ни на кого не накричал, даже объявляя строжайшие взыскания, ни разу не повысил голоса, но также никого и не похлопал дружески по плечу.
Неверова уважали, Терентьева любили.
– Ну, как там у тебя? – спросил майор, услышав голос Терентьева.
Терентьев доложил: люди накормлены, боеприпасы подвезены с вечера, сорокапятимиллиметровые пушки выдвинуты на новые позиции, дивизионки и миномёты будут вести огонь со старых огневых, цели для всех уточнены и указаны.
– Сверь часы, – сказал Неверов.
Капитан Терентьев взглянул на циферблат часов, сказал, сколько они показывают.
– Правильно, – раздался бесстрастный голос Неверова. – Сигнал знаешь?
– Знаю.
– О твоём выступлении я распоряжусь особо. Без моего приказа не трогаться, ясно?
– Ясно.
– У меня всё.
Капитан Терентьев облегчённо вздохнул и передал трубку телефонисту. Он всегда чувствовал себя, как говорят, не в своей тарелке, когда приходилось даже по телефону разговаривать с комбатом.
– Валерка, – весело и грубовато крикнул он, вновь обретая прежнее состояние. – Давай завтрак!
6Это был отличный завтрак. Особенно после доброй стопки водки.
Неделю назад старшина Гриценко наткнулся на немецкий продовольственный склад, и, пока про этот склад пронюхали дивизионные интенданты и поставили к нему охрану, ловкий Гриценко успел нагрузить продуктами четыре повозки. С того времени обеды в роте стали вариться без нормы, как бог на душу положит, абы погуще да пожирней. Вот и сегодня: чего было больше заложено в котёл ротными поварами – мяса или макарон, – не разобрать.
«А по котелку, пожалуй, никто и не одолеет, – подумал капитан, принимаясь за завтрак. – Впрочем, он никому и не даст по котелку, – мысленно усмехнулся Володя, – знаю я его, хитреца».
Не успел капитан подумать так о своём старшине, как ступеньки дробно и весело простучали – топ-топ-топ – и в подвал сбежала Надя Веткина.
– Здравствуйте, доброе утро, – звонко и весело крикнула она, стягивая через голову висевшую на плече брезентовую санитарную сумку с большим белым кругом и красным крестом на боковой крышке.
И все, кроме Валерки, при виде её оживились и откликнулись приветливыми голосами. Обрадовался приходу Наденьки и Володя Терентьев. Однако, скрывая от людей это своё чувство, по обыкновению стыдясь его, он спросил, нахмуря брови и небрежно взглянув на Надю:
– Как там?
Надя кинула на нары сумку, пилотку, тряхнула коротко, по-мальчишески подстриженной головой и, широко, беспечно взмахнув руками, ответила:
– А чего, товарищ капитан, как всегда. – При этом она искоса, быстро и счастливо глянула на Валерку.
– Садись завтракать. Валерка, дай ложку! – Терентьев чуть отодвинул от себя котелок, приглашая Надю присесть напротив него на нары.
– У неё своя есть, – ответил ординарец. – Не барыня.
– Ну! – прикрикнул Терентьев.
– Нет, нет, – трепетно и поспешно заступилась за Валерку Надя. – Я уже поела у старшины, спасибо. А ложка у меня своя.
Но Валерка, перестав есть и обиженно насупясь, уже положил свою ложку возле командирского котелка, демонстративно вытерев её перед этим не особенно чистым, но не так уж и грязным для постояльцев блиндажей и землянок передового края вафельным полотенцем.
– Не надо, Валерик, ешь сам, – ещё поспешнее воскликнула Надя и, схватив ложку, умоляюще, со слезами на глазах, глядела то на командира, то на ординарца.
– А! – с досадою произнёс Терентьев, отрешённо махнув рукой, как бы говоря: делайте что хотите, мне с этой минуты окончательно наплевать на вас.
Надя так и поняла его и, с благодарностью улыбнувшись ему, возвратила ложку Валерке, обиженно глядевшему в сторону.
После этого она села рядом с капитаном на нары и, болтая ногами в широких голенищах кирзовых сапог, стала рассказывать о том, как солдат Ефимов из первого взвода задремал на посту и спросонья, ни с того ни с сего принялся палить из винтовки по своим тылам.
Солдат Ефимов, двадцатилетний малый, прибыл в роту с пополнением год назад и за это время сумел дважды побывать на лечении в ближних полевых госпиталях и возвратиться оттуда с двумя красными ленточками на груди, выдаваемыми за лёгкие ранения.
Это был неповоротливый, бестолковый, всегда не выспавшийся молодой человек, от которого можно было ожидать всего, что угодно и что неугодно, кроме нехитрых, но правильных и здравых солдатских поступков.
Одному только богу было известно, как он поведёт себя в ту или иную минуту, какое вдруг, даже к своему собственному удивлению, выкинет коленце. И тем не менее на груди его сияла медаль «За отвагу», которую, как известно, получали самые смелые и находчивые солдаты.
К таким солдатам Ефимов не имел никакого отношения, и командир взвода решался ставить его на ночной пост только в крайних случаях, когда иного выхода не было. В напряжённейшие для передовой часы, ночью, Ефимов обычно безмятежно похрапывал в углу землянки. Находился он в должности подносчика патронов к станковому пулемёту.
Первый раз Ефимова ранило так. Был тихий солнечный полдень. Ефимов стоял на посту, наблюдая из своей траншеи за окопами противника. Рядом с ним, на открытой огневой площадке, замаскированный плащ-палаткой (чтобы не отсвечивало солнце), стоял заряженный станковый пулемёт, а чуть ниже, в стенке окопа, в нише, лежали гранаты Ф-1 и РГД. Ефимова, по всей видимости, разморило на солнцепёке, и он, позёвывая, скуки ради взял в руку одну из гранат, повертел-покрутил её и услышал, как вскорости в гранате что-то щёлкнуло. Теперь её нужно было поскорее бросать подальше от себя, ещё секунда-другая – и граната взорвётся. Но Ефимов, не имевший понятия о том, как обращаться с такими гранатами, сделал всё по-своему. Класть гранату обратно в нишу он побоялся (как-никак всё-таки в ней что-то щёлкнуло), а сунул её к пулемёту под плащ-палатку и как ни в чём не бывало вновь занял наблюдательный пост.
Результат этой наивной забавы был таков: изрешечённая осколками плащ-палатка, пробитый в десяти местах кожух и погнутый взрывом щиток максима.
А сам виновник забавы оказался раненным в ягодицу всего лишь одним-разъединым, величиной в пуговицу от нательной рубахи, осколком. Героя тут же отправили в госпиталь, и все, в том числе и капитан Терентьев, облегчённо вздохнули: солдаты, как правило, очень редко возвращаются из госпиталей в свои прежние части.
Но не прошло и двух недель, как однажды утром перед ошеломлённым капитаном Терентьевым уже стоял отдохнувший, словно в санатории, Ефимов и, оттопырив толстую нижнюю губу, покорно ждал своей участи. На груди его выстиранной и выглаженной гимнастёрки алела первая ленточка за ранение.
– Чёрт знает что, – брезгливо морщась, сказал Терентьев. – Идите к себе во взвод. – И стал ждать, что будет дальше с этим безалаберным солдатом.
А ждать пришлось недолго: месяц.
Опять было жарко, солнечно и тихо. И опять Ефимов наблюдал за вражескими позициями. За весь этот знойный день, как уверяют очевидцы, со стороны противника был сделан всего лишь один выстрел из ротного миномёта. Но выпущенная из этого орудия мина разорвалась всё-таки не где-нибудь, а невдалеке от несчастного служаки Ефимова, и ещё меньший, чем в прошлый раз, осколочек угодил многострадальному бедняге в щёку. Но опять же не просто так, как бы он угодил другому солдату, а исключительно по-ефимовски, с выкрутасом: влетел в разинутый рот, не задев при этом ни зубов, ни языка.
Надя напихала Ефимову полный рот ваты и заверила капитана Терентьева, что теперь-то уж солдата отправят в дальний госпиталь, откуда ему попасть обратно в свою роту будет немыслимо.
Но прошло ещё две недели, и Ефимов как ни в чём не бывало предстал перед капитаном уже с двумя ленточками на груди. А несколько дней спустя командир дивизии, в оперативном подчинении которого находился артпульбат, прибыл, сопровождаемый адъютантом и автоматчиками, на передний край, попал в роту Терентьева, увидел лихого молодца с двумя ленточками за ранение и вскричал:
– Орёл! Дважды ранен и не награждён? Поч-че-му? – И строго посмотрел на Терентьева.
Капитан попытался было объяснить, в чём тут дело, но было поздно. Адъютант, по приказу комдива, уже извлёк из коробки медаль «За отвагу» и протянул генералу, а тот торжественно приколол её к груди бравого молодца Ефимова.
И вот теперь этот Ефимов ни с того ни с сего поднял стрельбу по своим тылам и, как рассказывает Надя, очень при этом испугался.
Надя рассказывает, упёршись ладонями в край нар и покачиваясь из стороны в сторону. Милое лицо её с веснушками на переносице весело и беспечно. Рассказывая, она то и дело украдкой поглядывает на Валерку, и капитану Терентьеву, да и другим людям, присутствующим в это время в подвале, совершенно ясно, что и рассказывает, и покачивается, и улыбается она исключительно ради этого невнимательного к ней парня.
Валерка, повернувшись к Наде спиной, моет посуду, демонстративно гремя ложками и котелками.
7А время идёт.
Пока в подвале завтракали и пили чай, наступило полное утро.
Как всегда в такие часы, напрочь замирает перестрелка и становится так тихо, что у людей возникает ощущение, будто никакой воины нет и можно подняться в полный рост над окопами, траншеями, ходами сообщения, огневыми площадками, дзотами да и идти куда тебе вздумается, куда твои глаза глядят, хоть на проволочные заграждения, и никто в тебя не выстрелит, и ты не упадёшь, уже ничего не понимая и никогда не узнав, что будет потом, после тебя, после того, как ты мгновенно перестанешь существовать – дышать, думать, горевать и радоваться.
А время идёт.
В подвале появляется новое лицо – представитель штаба батальона, начальник химической службы, а попросту начхим, старший лейтенант Навруцкий, маленький человек с покатыми плечами, с большим печальным греческим носом и робко и доверчиво поглядывающими на людей сквозь толстые стёкла очков глазами. Говорят, в институте, где он работал до мобилизации в армию, его считали очень способным, с большим будущим молодым специалистом. Однако к военной службе он совершенно неприспособлен: даже не может правильно отдать честь, заправить под ремень гимнастёрку. Пилотка на его голове сидит чёрт знает как: натянута на самые уши.
Капитан Терентьев относился к старшему лейтенанту Навруцкому, своему ровеснику, с таким чувством, в котором смешивались и досада, и едва сдерживаемое раздражение, и жалость, и ещё нечто такое, что словами и не объяснишь, но что очень точно характеризует полнейшее превосходство одного человека над другим.
Если бы, по мнению Терентьева, Навруцкого вдруг демобилизовали, то была бы совершена одна из самых величайших справедливостей на земле. Право же, думалось Володе, Навруцкий больше пользы принёс бы отечеству, находясь в тылу.
Навруцкий пребывал на фронте больше года, но так и не привык ни к своим офицерским погонам, ни к самой войне. Про него среди офицеров батальона ходило много смешных и нелепых историй, и только два человека не смеялись над ним: майор Неверов и капитан Терентьев. Неверов не смеялся потому, что не умел, а Володя потому, что жалел Навруцкого. Ему всегда становилось жалко нелепых и беспомощных людей.
Только Навруцкий появился в батальоне, над ним стали потешаться, и однажды Терентьев собственными глазами видел, как среди кустов, в нахлобученной пилотке, с выбившейся из-под ремня гимнастёркой, со съехавшей на живот кобурой револьвера, пробирался на четвереньках (это должно было изображать передвижение по-пластунски) начхим Навруцкий. Чуть позади него шагал ухмыляющийся во всю физиономию заместитель Терентьева, старший лейтенант, забубённая головушка Васька Симагин. Он изредка постреливал в небо из автомата. Симагин ходил в штаб, и оттуда с ним увязался начальник химслужбы. Не доходя метров сто до КП роты, Васька, потехи ради, вдруг выстрелил из автомата и дико заорал:
– Ложись!
– Что это? – спросил Навруцкий, покорно плюхнувшись рядом с ним в траву.
– Здесь всё простреливается, как есть со всех сторон, – соврал Васька. – Давай теперь впереди по-пластунски, а я на всякий случай буду прикрывать твоё продвижение.
И Навруцкий, доверившись ему, пополз как умел на четвереньках, а Симагин поднялся, стряхнул с колен травинки и пошёл чуть сзади, постреливая из автомата.
Терентьев случайно наткнулся на них, и лицо у него стало такое, что даже забубённая головушка струсил и воровато огляделся по сторонам. Однако прятаться было поздно и негде.
Навруцкий поднялся не сразу. Сперва он сел на пятки и тщательно, не спеша протёр очки. Потом, водрузив их на пос, поглядел на Терентьева добрыми глазами и сказал:
– Ну вот, я и прибыл к вам. Здравствуй. Очень рад видеть тебя.
– Здравствуй. Проходи в блиндаж. А ты, – он ткнул пальцем в сторону Симагина, – останься. Слушай, – яростным шёпотом сказал Терентьев, подойдя вплотную к своему заместителю и удостоверясь, что их никто не может услышать, – если я ещё раз увижу такое унизительное издевательство над человеком, то я…
– Да ладно, ладно, чего ты. Чёрт с ним, – поспешил ретироваться Симагин, подняв вверх ладони и пятясь. – Я думал тебя повеселить, а ты уж вон что – издевательство…
«Зачем он сейчас-то сюда притащился, – с досадой и раздражением думал Терентьев, пожимая руку Навруцкого. – Неужели в штабе не понимают, что он мне только обуза. Ведь бой же будет. Это не симагинские штучки-шуточки. Человек ведь может погибнуть ни за что ни про что, за здорово живёшь. Ну куда бы мне его деть? А ведь надо непременно определить куда-нибудь, где побезопаснее и потише. К миномётчикам разве».
– Слушай, старший лейтенант, – сказал он, – ты окажешь нам неоценимую услугу, если во время наступления, как только мы тронемся вперёд, понимаешь…