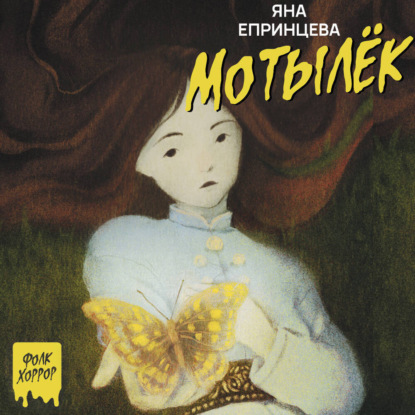Полная версия
Дочь мольфара
Не стало.
Агнешка вышла из-за широкого дуба и поглядела на любимого.
– Агнешка! – кинулся он к ней навстречу.
Но та выставила вперёд ладонь:
– Не подходи.
– Чаму ты так? – дохнул студёным облачком пара Янко.
– Тому, как предатель ты, – ответила Агнешка, потуже кутаясь в шаль. – Текай к своей Каталине и будь счастлив.
– Не хочу я к Каталине. Я к тебе хочу. Скучаю по тебе очень. К ручью несчитанные разы ходил.
– И дальше ходи, коли дел никаких нет.
Янко понимал, что горечь Агнешки сильная, и не просто так. Он – тому виной, и вина его неоспорима. Хотел он тогда, в церкви, вступиться за любимую. Но что бы из этого вышло? Да ничего доброго. Новые тумаки от отца, да лишние косые взгляды сельчан – вот и весь выхлоп.
– Прости меня, – снова повторил Янко, каясь перед любимой чистосердечно.
И Агнешка видела, как дурно ему, как тяжело. А всё равно не прощала.
– Я подарок тебе принёс, – сказал Янко.
Он достал из-за пазухи золотого петушка на палочке – точно такого, что Агнешка пробовала сменять на вязанку луковиц.
– Ты же любишь леденцы, сама говорила. На. Это тебе, – дрожащей рукой Янко протянул девушке гостинец.
– Не нужен мне твой подарок, – гордо заявила Агнешка. – Ступай домой. Иначе голова Шандор хватится. Да и невеста тебя заждалась поди.
– Не невеста мне Каталина! – вспыхнул Янко. – Ты моя невеста! Ты и никакая другая больше в целом мире!
– Я – твоя невеста, а на заречении целовать Каталинину ленту станешь? Как же так это, Янко?
Справедливый вопрос. И жестокий. И готового ответа на него не было у Янко. Он молчал и смотрел в чёрные очи. Смотрел и наглядеться не мог, двинуться не мог, коснуться любимой не мог.
Она стояла, холодна и сурова, как зима, как непреступные горы. Гордая и сильная, как вековые сосны. Родная и желанная, как солнечный луч, как глоток воздуха.
– Давай убежим, – тихо попросил Янко, зная, что некуда им бежать.
Но уж лучше бежать в никуда, чем оставаться ни с чем.
– Сам знаешь, что не побегу, – спокойно ответила Агнешка. – И ты не побежишь. Нету нам общих дорог. Так что ступай.
Она глянула на поблескивавший золотом леденец в поникшей руке. Даже этот блеск совсем померк. Солнце село. И не только над лесом.
– Прощай, Янко, – сказала Агнешка. – Не ходи за мной. Живи себе ладно.
– Постой, – слабым голосом остановил её любимый.
Он протянул Агнешке некогда обронённый ею деревянный гребень. Она улыбнулась, печально и горько.
– Себе оставь. А хочешь – брось. А хочешь – невесте подари. Мне тятя новый вырезал. Лучше прежнего. Прощай.
И Агнешка ушла. Её тонкую фигуру моментально поглотила тьма, будто никого и не стояло рядом с Янко какую-то минуту назад. А может, и правда никого. Лес-то зачарованный. Может, мавка игралась с ним и насылала видения?..
Но – нет. Была Агнешка. И была любовь к ней. И если сама Агнешка смогла уйти, то любовь никуда не уходила. Только любовь и осталась Янко. А ещё тьма, одиночество и стылый холод.
Часть 2
Глава 7

Захлестал злой ветер по лицу, заскрёб по впалым девичьим щекам, сорвал слёзы с белёсых ресниц, ударил в расхристанную набегу молодую грудь. Но Каталина не чувствовала ни хлада, ни скользкой земли под ногами, которые сами уносили её прочь от позорного видения. Хотя от своего позора некуда было сховаться. Была б её воля, она бы силой удержала Янко. Но по себе знала, что сила, которая ломает душу и тело на куски, не рождает любовь. Ничего не рождает, кроме ненависти, кроме страха.
Каталине нечего стало теперь бояться. Самые жестокие страхи её сбылись.
«Не одумается он. Не остепенится. Не стерпит и не слюбит. А всё потому, что увечная я. Всё потому, что слова не смолвлю, чтоб не запнуться…» – объясняла себе Каталина в мыслях. Ум её сохранял ясность и стройность, в отличие от языка, который заплетался и бился о слова, как тяжёлый обух о деревянную колоду.
Может, и было бы где-то в скором времени Каталинино счастье, если бы не проклятое заикание. А у заики какое может быть счастье? Только такое же – обрывочное, невнятное.
Каталина неслась задворками, стараясь держаться подальше от людных мест. И без того все на базаре видели, как рыдала она, как стояла стоймя одна, брошенная. Вроде невеста, но даже не заречённая, а уже преданная. Она слышала гадкие хохотки – мальчишки деревенские смеялись, всегда смеялись, а теперь только сильнее гоготали.
Никто её не любил, кроме Отче, которого Каталина видела лишь на картинках. Он благословил её рождение, дал нательный крест и муки тоже дал, но совсем непосильные.
Захлёбываясь, хрипя, Каталина влетела в дом. Отец Тодор отлучился в город по делам богоугодным, а матушка Ксилла, видать, в саду прибиралась или к соседке-трескухе пошла.
– М-мат-тушка!.. – позвала Каталина.
Никто не ответил.
Она поглядела на гаснущий день в мутном крошечном окошке, перечёркнутом накрест чёрными перекладинами. В сумраке продрогших сеней даже тени не ложились. А в тишине одиночества ещё громче кричало сердце.
– Матушка… – вновь обронила Каталина, уже без запинки.
Когда она шептала в тишине и покое, некоторые слова давались ей, но таких было немного. Каталина очень хотела научиться произносить имя суженого чисто и легко, но даже короткое имя Янко не шло гладко, как назло. Всё назло. И матушка, как назло, ушла. И света в сенях не стало, как назло.
Осев на колени, Каталина горько зарыдала. Даже рыдания у неё получались не такими гладкими, как у старух-плакальщиц[12]. Она вспомнила, что матушка про то говорила:
– Хнычешь как корова на издохе! Ни красы, ни ума в тебе – отродье бедовое!
Отродье. Пусть и божье, но всё равно отродье.
Каталина подняла выплаканные до белизны очи к иконам. Где-то среди них потерялся бог. И в глазах избранных им святых не мелькало ни жалости, ни сомнений. Глаза их застыли и закоптились от лампадного огня. Каталина попробовала произнести молитву, но не вышло, и она окончательно разозлилась на себя. Закричала, что есть мочи. Уткнулась лбом в шершавые доски пола и кричала, кричала.
А накричавшись, оглядела дом. Такой крик даже Отче наверняка расслышит и даст знак. Он всегда даёт знаки заблудшим овцам своим. Каталина разглядела собственный знак – ножницы, которыми матушка кроила мешковину.
Трясущимися руками сжала холодную сталь. Села на пятки, снова глянула на образа.
– Господи, помоги мне… – прошептала Каталина.
И со всего маха ткнула острием в белую шею. Лишь за считаные миллиметры руки запротивились, окаменели. Но грубый клинок всё же прорубил себе путь под самым горлом. Кровь хлестанула на сведённые судорогой пальцы, на ржавую сталь. Потекла на грудь чёрными струями.
– Дура! – заорала матушка Ксилла, выхватывая из дочериных ослабших ладоней орудие собственного убийства. – Дура! Дура!
Ксилла прижала к себе израненное дитя. Каталина зашлась в рыданиях, ещё горше прежних.
– П-пу-усти…
– Не пущу! Не пущу!
– П-п-п…
– Не пущу! – кричала матушка, плача вместе с неразумной девицей. – Не пущу… Дура моя… Дура… Не пущу…
Каталина пробовала поначалу вырываться, боролась с матерью, но та и не думала ослаблять хватку. Не для того она принесла на свет глупую девочку, чтобы схоронить её без креста и отпевания на краю кладбища.
– Что люди скажут?.. Что люди скажут?.. – бормотала Ксилла, не переставая лить безутешные слёзы.
Что люди надумают и накостерят? Что отрочка рукоположённого Отца Тодора руки на себя наложила? Что в святом доме такая скверна пролилась?..
– Жи-жизни мне н-нет, м-матушка… Ж-жи-жизни н-нет…
– Есть у тебя жизнь! – рьяно уговаривала Ксилла. – Всё у тебя есть! Всё! Что у других не было отродясь, у тебя-то всё есть!
– Г-гол-лос-са н-нет…
– Будет. Будет голос. Всё будет, доченька. Муж будет. Дом будет. Детки будут. Всё будет.
Каталина не поверила уговорам, но сопротивляться перестала. Да и умирать стало как-то совсем страшно.
– Никому бог не даёт горше испытаний, чем надобно справиться, – всё повторяла и повторяла матушка давно заученную речь. – И ты справишься. И ты всё одолеешь.
Закрыв глаза, она баюкала в объятьях несчастную девочку. Стала напевать ей песню – баюльную, что много зим назад пела над колыбелью маленькой Каталины. И тогда, и сейчас дитя успокоилось, смирилось и стихло.
Глава 8
Поднимался тоненькой нитью сероватый дымок. Ветер лупил по стенам, завывал под крышей, жалобный, свистящий. Пытался он пробраться в узкие щели, рвал паклю и скрёб по неотёсанным брёвнам. Но к дымку прикоснуться так и не смог. Слабая, почти прозрачная струйка беспрепятственно и легко скользила ввысь, унося в незримую бестелесную реальность наветы старого мольфара.
Штефан продолжал шептать заговор. Хромая козочка, ранее противившаяся людской помощи, теперь совсем затихла и уснула, приткнувшись носом в колени сидящего рядом с ней седого старика. Юфрозина, наблюдавшая за колдовством из тёмного угла, затаила дыхание. Дым от брошенных в чугунный котелок сухих трав зачаровал и её. Она глядела во все глаза на мольфара и поминутно крестилась.
Жалко ей было козочку. Но куда с такой хромой возиться? Только на убой да в суп. А супу того небогато сварится. Ладно б ещё слепая оказалась, но хромой козе как пастись? И блеяла она с рассвета до заката, что аж грусть-тоска невыносимая брала. Вот и снесла Юфрозина к мольфару болючую животину. Пущай повозится, авось толк будет…
И толк получился. Козочка хоть стонать перестала. Слабая такая, тощая – кости одни. Копытцем своим увечным дёргать перестала – уже за счастье. Отошла, видать, в невозвратную Навь…
Юфрозина насторожилась. Конечно, с такой скотиной всяко случиться могло, но ещё жальче станет, если Штефан своими шептаниями чего-то не того нашепчет и помрёт коза. Тогда уж и супа никакого не будет. А такое совсем уж в Юфрозинины планы не входило.
Однако вмешиваться в обряд она не спешила. Исходила холодным потом, дрожала со страху перед неведомым, но молчала. Мало ли что… Вдруг духи и её к рукам приберут?
К тому они и духи, чтобы лишь с мольфарами знаться, а до простых людей они сходят лишь со злыми намерениями. А то, что в тесной комнатухе Штефана без оконцев и щелей сейчас разгуливали бестелесные создания, никаких сомнений быть не могло. Юфрозина поклясться могла, что чует их, осязает, слышит скрипучие, надломленные, нечеловечьи голоса. То уже не ветер, нет. То усопшие тихонько плачут, хихикают и напевают. Их присутствие ощущалось так, будто тонкие-тонкие иглы колют с головы до пят всю кожу, пронзая до самых костей.
Страшно…
Страшно нос показать из закутка и глянуть в тёмные мольфаровы очи. Лучше ждать неприметно и молиться, чтобы не издохла козочка.
Тем временем Агнешка по другую сторону тряпицы, отгораживающей вход, возилась с охапками трав. Голос отца всегда успокаивал её. Под его вкрадчивое бормотание она любила заниматься рутинными делами, ни о чём не думая и ни о чём не беспокоясь. Даже то, что к ним в дом пожаловала Юфрозина, Агнешку не волновало. Матушка Лисии была частой гостьей здесь, на выселках, с тех пор как овдовела. Нередко приводила она с собой и дочь. Но сегодня пришла одна, если не считать хромой животины, и ещё с порога наградила Агнешку недобрым взглядом, молча шагнула в дом и направилась прямиком к Штефану, не перекинувшись с Агнешкой и парой слов.
Мольфар замолчал. Сидя с опущенными веками, он застыл перед чадящим котелком. Духи тоже притихли. И даже ветер кругом дома ненадолго поник.
Юфрозина вгляделась в безмятежное лицо старика, который раз осенила себя крестом и глянула на козу. Морда животного лежала неподвижно, лишь щёлочки ноздрей едва-едва заметно подрагивали. Дышит… Дышит!..
В полной тишине Штефан открыл глаза. Травы уже успели полностью прогореть, оставив после себя лишь серый пепел. Зачерпнув пригоршню ещё тёплого порошка, мольфар растёр по хромой лапке травяной пепел. Коза шевельнулась, а затем вдруг вскочила на все четыре копытца, проблеяла что-то на своём козьем языке, да легонько боднула рожками мольфара, как бы благодаря его за излечение.
– Чудо… – выдохнула Юфрозина и снова перекрестилась.
Согнувшись впополам, крадучись, будто кладбищенский вор, она выползла из тени на свет горящей лампады и быстро ухватила козу. Затолкала в свой тулуп, поближе к тёплой груди, и бочком скользнула на выход из пристройки.
– Прощавай, Штефан, – пробормотала вдова, уже скрываясь за шторкой.
– Бог простит, – со смиренным покойствием ответил ей мольфар.
Агнешка успела заметить лишь сгорбленную тень, прошмыгнувшую в полумраке дома, точно пугливая мышь в подпол, и ничего не сказала. Даже если б хотела, не успела бы, да и что тут говорить? Можно было бы Лисии слово хоть передать, так Юфрозина вместо слов одни тумаки передаст. И не важно, скажет что-нибудь Агнешка или не скажет.
Штефан прибирался в своём укромном владении. Агнешка к нему присоединилась, чтобы подмести пол. Она только-только решилась спросить отца о том, что давно на языке вертелось, но тут входная дверь опять скрипнула, тихонько топнули о пол две пары башмаков. Агнешка выглянула за занавеску, услышала тихий зов, пошла в сени встречать новых посетителей.
На сей раз она всё-таки немало удивилась. Ведь на пороге, переминаясь с ноги на ногу, стояла попадья Ксилла. И не одна. С нею вместе пожаловала и Каталина. Обе они, закутанные в шали по самые брови, что глаза еле-еле выглядывают, отвели лица от вышедшей им навстречу девушки. Может, надеялись, что Агнешка не признает их, примет за кого-то иного. Однако спутать с кем-то ещё толстую, грудастую попадью, извечно щурящую левый глаз, и её низенькую бледную, как утренний свет, отрочку, с понуро висящими худыми плечами, было решительно невозможно. К тому же одёжи их здорово выдавали. Одни платки расписные чего стоили да тулупы – не на козьем или овечьем меху, а с настоящей чернобурой оторочкой.
Ксилла перегородила собой дочь, как бы спасая её от чёрного глаза наречённой ведьмы, и проговорила решительно:
– К Штефану мы.
Агнешка кивнула подбородком на штору.
Попадья вцепилась в дочерин рукав, поволокла за собой. И обе они тотчас пропали за шторкой.
Конечно, совестно было греть уши на чужих разговорах, но Агнешка ничего не смогла с собой поделать. Тут и любопытство подстёгивало, и самоличная обида, и недоумение, что семейство святого Отца пришло за помощью к мольфару.
Тодор не гнал Штефана, не помятал откровенно злым словом, но и доброго ничего не говорил. Нет-нет да и упомянёт, мол, нечистое это дело у духов пособничества просить, на всё воля божья, даже на овцу хромую. И коли выпало ей на роду хромать, пусть хромает своё, а бог поможет.
Однако Ксилла явилась не за тем, чтобы справиться о чужом житье-бытье. Она ратовала за своё. И Каталину притащила не просто так, а по делу.
– Мы уж и отмаливали её, и на ночь в погребе запирали, чтоб бесы спужались…
Штефан внимал её откровениям беспристрастно, продолжая отмывать котелок от остатков курений.
– Помоги, Штефан. Помоги. Ты же мольфар, ты же ведаешь, как гнать тёмную силу…
Агнешка уставилась одним глазом в дырку на полотнище и наблюдала, как отец её с одинаковым рвением рассматривает Каталину так же, что и давешнюю козу. Прошения даже самой попадьи не трогали его сердце. Просить и вовсе было не обязательно. Мольфар помогал каждой живой душе, по мере своих сил.
– Помоги, Штефан… Как ей замуж идти такой убогой?..
Противный холодок побежал по спине Агнешки. Дыхание её участилось, требуя отпустить на волю горестный стон.
Хоть и гнала она Янко от себя, а душа всё одно упрямо тянулась к нему. Выла белугой по ночам, молила об успокоении. Но где это видано, чтобы любовь, как и нелюбовь, вершились по воле человеческой? Может, духи, не почившие в Нави, шатающиеся меж миров живых и мёртвых, имеют такую силу?
О том не раз просили Штефана зарёванные девицы – кто о привороте, кто об изгнании соперницы. Но таким просьбам мольфар не внимал. Насыпал в платок травяной сбор с мелиссой и ромашкой и молча передавал в дрожащие руки недолюбленных дев.
– В спокойном сердце – спокойные думы, – объяснял он.
Иные сердились на выходку, затаивали ещё большее зло, а мольфар всё готовил и готовил свои травы, разговаривал с ветром, умывался дождём, приветствовал гром и молнии.
Как раз громыхнуло первым раскатом над низкой крышей. Каталина и Ксилла вздрогнули. Мольфар лишь поднял очи к потолку. Сила небесная накрыла куполом, затрещали по небу яркие зарницы.
– Раздеться надобно, – сказал тихо старик.
Ксилла тотчас кинулась разматывать из шали напуганную дочь. Каталина не противилась. Дрожа и всхлипывая, она готова была принять любое лечение, только б оно помогло. Вскоре она уже стояла перед мольфаром в одной длинной рубахе.
Штефан присмотрелся к колотому шраму на её шее, поочерёдно осмотрел руки, сохранившие на плечах следы священных розг. Спутанные белые волосы скомкались под шалью, хотя Каталина старательно чесала их перед выходом, но, кажется, только больше выдрала, чем разгладила.
– Садись, – мягко сказал Штефан. – В ногах правды нет.
– Н-н-на пол?
Мольфар кивнул. Девушка, по укоренившейся привычке, опустилась на колени. Однако Штефан пересадил её поудобнее.
– Вода нужна тёплая, – произнёс старик, и Агнешка сразу поняла, что обращается он к ней.
Значит, не укрылось от отца постороннее наблюдение. Ничто не проходило мимо его внимания, никакие секреты не могли противиться отцовской зоркости.
– Вот, тятя, – Агнешка поставила у порога жбан с подогретой водицей и вновь нырнула за занавеску.
Даже если б изо всех сил приказала себе Агнешка не смотреть, не гневить духов, всё равно не смогла бы удержаться.
И она смотрела.
Смотрела, как её отец возвращает здравие и голос в тщедушное Каталинино тельце – нескладное, ребрастое, состоящее из сплошных углов, будто бы множество раз её ломали, а затем наново складывали, и всегда невпопад.
Стало быть, такая невеста назначена Янко.
«А ежели б силком не назначили, такую б по доброй воле никто не забрал…» – злилась Агнешка в мыслях, зная, что думает скверно, но вопреки доброму свету чёрная желчь закипала в её нутре.
И она смотрела.
Смотрела, как старый мольфар привычно читает заговор, поджигает душистые травы, окуривает ими комнату и лик Каталины, проводит ладонью по её израненной шее умелым, спокойным жестом.
Ксилла вела себя тихо. Ей, как и Юфрозине до этого, было страшно. Но причина страха имела иные корни. Не духи её волновали, не рваный ветер, не разбушевавшаяся гроза. Да и бесовские курения не беспокоили настолько сильно, как возвращение до дому. Надобно было вернуться пораньше, чтобы Отец Тодор не выкупил их с дочерью отлучения. Попадья не думала, как станет жить Каталина с новым голосом. Может, и голоса никакого нового не случится. В конце концов, её и немую обвенчают запросто. Не накликать быть новых бед, а там уж – разберётся само собой.
Дымный чад заполонил полностью комнатушку. Каталина принялась кашлять. Сначала тихо, а потом совсем зашлась как чахоточная. Ксилла уж было ринулась к дочери, но мольфар остановил.
Кашель становился лёгочным, дерущим горло изнутри. Девушка давилась мокротой. Штефан утирал ей лицо и шею чистой водой, а она продолжала кашлять. На пол полетели жёлтые, гнойные сгустки. Каталину забило лихорадкой. Мольфар читал одному ему понятные слова. И духи затанцевали по стенам под его монотонную песнь. Попадья охнула, когда в выхваченном свете проползла змеиная тень и тут же крылась. Вот тогда и впрямь ей стало страшно самым обычным человеческим страхом.
Дождь, видимо, вздумал проломить крышу большими отчаянными каплями, а гром решил рассечь небо. Из небесного разлома сплошным потоком летели прозрачные стрелы, и где-то неподалёку застонала сама земля, не в силах терпеть столько мучений.
Каталина чувствовала, что срастается с полом, точно дерево. Пробивает корнями, идущими из пальцев её, половые доски. И уходят корни эти глубоко-глубоко в почву и оттуда впитывают растворённые соки, оттуда черпают силу, несопоставимую с силой даже самого крепкого мужчины. Белёсые глаза девушки закатились. Она вскрикнула вровень с очередным громовым раскатом. Да так пронзительно, что Ксилла зажмурилась и сдавила уши ладонями.
А потом всё стихло.
Штефан подлил воды в сожжённый пепел, намешал пальцем густую кашицу. Этой кашицей хорошенько смазал шею Каталины и обернул её же платком.
Отойдя в другой угол пристройки, мольфар окончательно стих и принялся оттирать котелок от остатков кашицы. Каталина открыла глаза, потрогала замотанное горло. Ксилла подползла к ней на карачках, удивлённо и боязливо взирая на дочь.
– Кажи что-то, – попросила она.
– М… – попробовала выдавить Каталина и на первом же звуке поперхнулась.
– Не торопись, – сказал Штефан, не поворачиваясь к гостьям. – Торопиться потом будешь. Хотя и потом не надобно.
– М-матушка… – прозвучало внезапно в тиши комнатки. – Матушка… – почти чисто в каждом положенном слоге. – Матушка…
Каталина расплакалась. Мать прижала её к себе, не веруя, что чудо всё-таки свершилось.
– Слава тебе, боже… – шептала попадья, успокаивая рыдающую дочь. – Слава тебе, боже… Смилостивился… Смилостивился…
– Матушка… – раз за разом произносила Каталина.
Ей тоже не верилось в чудодействие. Не могло повериться. После долгих лет мук и страданий спасение пришло так скоропостижно и почти безболезненно. Ни гороха под коленями, ни обжигающих хлыщавых плетей, ни бесконечных молитв. Только травы, монотонный шёпот и вода. И пальцы-корни, которые Каталина ещё немного ощущала, хотя никаких корней из неё уже не росло.
Всё закончилось…
– Утром натощак и в вечер перед сном, – сказал Штефан, передавая Ксилле свёрток с россыпью разнотравья. – Настояться с луны до луны в кувшине и пить по глоточку три раза по десять дней. Запомнила?
– Запомнила! Запомнила! – едва не рыдала Ксилла.
– Криком не кричать, шёпотом не шептать, песни не петь, – продолжал мольфар. – Беречься от холода и сквозных ветров. Запомнила?
Каталина, переставшая лить слёзы, коротко кивнула. Мать уже облачала её обратно в одёжи, неустанно причитая:
– Хвали Господа! Хвали! Славь Отче нашего милосердного!
Агнешка отвернулась. Подтянув колени к груди, подпирая стену спиной, она застыла на лавке с пустыми глазами. Ей тоже хотелось плакать. И не моглось.
Ведь ни слёзы, ни любая другая водица не могли исцелить её жизни. Бренное тело латается, а на душе заплату не поставишь. Хромая нога срастается, дряблые связки набирают силу. И слабые волосы, и сорванные поясницы, и треснутые ногти – всё можно починить. А душа, распятая ржавыми гвоздями несправедливости, продолжает кровоточить.
Судьба это такая, или испытание, или наказание, или что-то другое – Агнешка не знала. Зато теперь она знала, что Каталина способна произнести древнюю клятву на заречении, а потом уж и в церкви на венчании. А после и в супружеской опочивальне сумеет заговорить ласковые слова суженому своему Янко…
– Живенько-живенько! – всё подгоняла дочку попадья, чтобы как можно скорее покинуть мольфаров дом.
В последний момент Каталина повернула взор к неподвижно сидящей на скамейке девушке. Взгляд чёрен и взгляд светел сошлись воедино, устремлённые друг к другу. И каждая в тот миг опалила другую. Каждая углядела и свет, и тьму. И каждая осталась при своём неотступно.
Гостьи ушли.
Мольфар вышел из пристройки, отирая шершавые мозолистые пальцы куском пакли.
– Тятя, почто ты их привечаешь? – спросила Агнешка. – Нет в них добра. И совести нет. Ничего нет, кроме корысти. Погляди на платки их. Каждый по три серебра. Корову целую купить можно. А они и благодарствия словом не оставили.
– Некуда нам корову девать, – ответил Штефан. – Это ж коровник надо и доить её дважды. Кто корову доить будет?
Он чуть заметно улыбнулся, а дочка его вздохнула:
– Не пойму я тебя… Ты всё говоришь, что добро делаешь. Что не можешь иначе. А какое это добро, если они как были алкающими, так и сталось с ними. Не прибавилось им добра ни капельки.
Настала очередь вздыхать Штефану:
– Твоя правда, Агнеш. И твоя же кривда. Я ведь не людям или зверью помогаю. Я помогаю душам. А души, что звериные, что человечьи, не ведают зла. Они чистые всегда. Добра им и так в достатке. Всё в мире – есть добро. Нужно только не на платки глядеть.
– А куда ж? – с грустью поинтересовалась Агнешка.
– В глаза, – уверенно ответил мольфар.
Девушка промолчала.
Она глядела в глаза Каталине. Вот только что глядела. Но разглядела там лишь пустоту и одиночество. За себя Агнешке и вовсе было страшно. Что смогла уличить Каталина в чёрных очах?.. Едва ли добро.