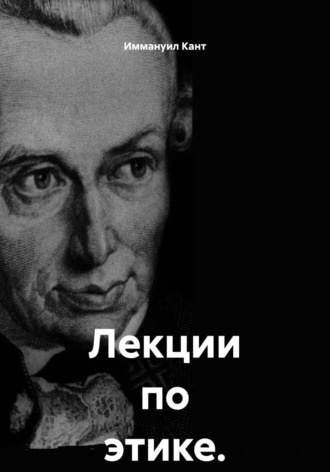
Полная версия
Какая воля самая совершенная? Та, которая показывает нам моральный закон и, следовательно, всю моральную вселенную. Но божественная воля согласуется с моральным законом, и потому Его воля свята и совершеннейша. Следовательно, мы познаем совершенство божественной воли благодаря моральному закону. Бог желает всего, что есть благо и честность, и потому Его воля свята и совершеннейша. Этика указывает на то, что морально хорошо.
Теологические понятия оказываются тем более испорченными, чем более испорчены моральные понятия. Если бы в теологии и религии понятия морали были чисты и святы, не было бы нужды стараться угодить Богу человеческим и неподобающим образом. Каждый представляет Бога согласно распространенному понятию как великого Господина, который могущественнее самого могущественного господина на земле. Поэтому каждый ребенок формирует также понятие моральности согласно понятию, которое он составил о Боге. Потому люди стараются быть угодными Богу, восхваляя Его и пытаясь завоевать Его благосклонность, и хвалят Его, как если бы речь шла о том великом Господине, которого мы не встречаем на земле; люди знают свои собственные пороки и думают, что каждый человек должен иметь подобные пороки, так что никто не был бы в состоянии делать что-то хорошее; они полагают, что, представляя свои грехи на коленях перед Богом и сокрушаясь о них, они почитают Его, не понимая, что такая жалкая хвала со стороны подобных червей – каковыми являются люди – есть нечто постыдное в глазах Бога. Они не замечают, что не могут хвалить Бога вовсе. Почитать Бога – значит охотно исполнять Его заповеди, а не воспевать Его хвалу. Однако когда нравственный человек старается применять моральный закон в силу внутреннего побуждения, основанного на внутренней доброте действия, он действительно почитает Бога. Но если мы должны исполнять Его заповеди потому, что Он так повелел и потому что Он столь могуществен, что может принудить нас к этому силой, тогда мы исполняем их из-за приказа, из страха и боязни, не принимая во внимание справедливость предписания и не зная, почему мы должны делать то, что Бог повелел, и почему мы должны повиноваться Ему; в конечном счете, vis obligandi не может заключаться в силе. Тот, кто угрожает таким образом, не обязывает, а принуждает. Если мы должны исполнять моральный закон из страха перед наказанием и могуществом Бога, это означает, что мы делаем то, что Бог повелевает, не из чувства долга и обязанности, а из страха, что, конечно, не улучшает наше сердце. Однако если действия основаны на внутренних принципах, если я исполняю действие по этой причине и охотно, это действительно угодно Богу. Богу важно лишь расположение духа, и оно заключается во внутреннем принципе. Ибо когда что-то делается охотно, это делается из доброго расположения духа. Даже когда божественное откровение должно быть правильно истолковано, оно должно толковаться согласно внутреннему принципу моральности. Добрая воля, следовательно, не есть благочестие – что соответствовало бы теологическому принципу —, а моральная нравственность заключается в добродетели, и только когда она осуществляется согласно доброй божественной воле, моральность превращается в благочестие.
До сих пор было показано, в чем не состоит принцип морали; теперь следует указать, в чем он состоит. Поскольку принцип морали является intellectuale internum, его следует искать в самом действии посредством чистого разума. В чем же он состоит? Мораль – это соответствие действий моему закону свободной воли, имеющему всеобщую значимость. Мораль заключается в отношении действий к всеобщему правилу. Во всех наших действиях то, что называется моральным, регулируется. Это фундаментальная часть морали: чтобы наши действия совершались по мотивам всеобщего правила. Если я устанавливаю основание, что мои действия должны согласовываться с всеобщим правилом, действительным во все времена и для всех, тогда такие действия будут происходить из морального принципа; например, выполнение обещания ради удовлетворения чувственности не является моральным, так как если – как можно предположить – никто не захотел бы выполнять свои обещания, в конечном итоге они стали бы бесполезными. Напротив, когда я сужу согласно разуму, является ли мое правило всеобщим, и поэтому выполняю свое обещание, желая при этом, чтобы все сдерживали свое слово по отношению ко мне, тогда мое действие совпадает со всеобщим правилом любой свободной воли.
Возьмем, к примеру, акт щедрости: когда кто-то находится в нужде, и я могу помочь ему, но предпочитаю потратить деньги на развлечения, тогда я должен спросить свой разум, может ли такое поведение быть всеобщим правилом, и было бы согласно моей воле, чтобы другой проявил равнодушие ко мне в подобной ситуации, что не совпадает с моей волей; следовательно, такое действие не является моральным.
Человек обладает максимами, противоречащими морали. Предписание – это объективный закон, согласно которому следует действовать; максима же, напротив, – это субъективный закон, по которому действуют на самом деле. Каждый рассматривает моральный закон как нечто, что можно публично признать, но в то же время считает свои максимы чем-то, что следует скрывать, поскольку они противоречат морали и не могут служить всеобщим правилом; например, у кого-то есть максима разбогатеть, которую он может не раскрывать – и так и сделает – никому, иначе он не достигнет своей цели; если бы это стало всеобщим правилом, тогда все хотели бы разбогатеть, и это стало бы невозможным, потому что все знали бы об этом и желали того же.
Примеры, касающиеся обязанностей по отношению к самому себе, сложнее исследовать, потому что они наименее известны. Их смешивают с прагматическими правилами личной выгоды, так как большинство из них относятся к этой категории; например, кто-то может навредить себе физически ради финансовой выгоды, торгуя своими зубами или продавая себя тому, кто больше заплатит. Где же здесь мораль? Мне остается только проверить, согласуется ли, согласно разуму, намерение действия с тем, чтобы оно могло стать всеобщим правилом. Намерение увеличить свою выгоду делает – как я считаю – человека вещью, простым инструментом животного удовольствия. В то время как люди – не вещи, а личности. В приведенном случае человек бесчестит человечество в своем собственном лице. То же самое происходит с самоубийством: согласно правилу благоразумия, могут быть случаи, когда кто-то под влиянием обстоятельств может быть вынужден лишить себя жизни, но это противоречит морали, поскольку намерение состоит в том, чтобы прекратить страдания своего положения, боли и несчастья своего состояния, низводя человечество до животности и подчиняя разум чувственным импульсам; следовательно, в этом случае противоречиво требовать прав, присущих человечеству.
Во всяком моральном суждении уместны следующие размышления: какова природа действия, если рассматривать его изолированно? Если намерение действия становится всеобщим правилом и совпадает с самим собой, тогда оно морально возможно; в противном случае – морально невозможно; например, лгать для достижения большей власти; в целом это невозможно, пока эта цель известна другим. Следовательно, это безнравственное действие, намерение которого самоуничтожается, как только оно становится всеобщим правилом. Оно будет моральным, когда намерение действия совпадает с самим собой, становясь всеобщим правилом.
Наш разум – это способность правил наших действий; когда эти правила совпадают со всеобщим правилом, они также согласуются с разумом и имеют мотивации, свойственные разуму. Если действия происходят потому, что они соответствуют всеобщему правилу разума, они происходят из principium moralitatis purum intellectuale internum. Однако, поскольку разум является способностью правила и суждения, мораль заключается в подчинении действий вообще принципу разума.
То, каким образом разум должен содержать принцип действия, трудно проанализировать. Разум вовсе не включает в себя цель действия, но мораль основывается на всеобщей форме разума (которая является интеллектуально чистой), а именно: может ли действие быть принято как всеобщее правило. Здесь заключается различие – о котором мы уже говорили ранее – между объективным принципом различения и субъективным принципом исполнения действия.
О субъективном принципе действия, мотиве действия, мы уже кое-что сказали; это моральное чувство, которое мы ранее отвергали как чужеродное разуму. Моральное чувство – это способность быть затронутым моральным суждением. Когда я сужу благодаря разуму, что действие морально хорошо, еще далеко до того, чтобы я совершил это действие, о котором уже вынес суждение. Но это суждение побуждает меня совершить действие, и это есть моральное чувство.
Разум может судить, но наделить это суждение разума силой, которая служила бы мотивом для побуждения воли к совершению действия, – это философский камень.
Разум принимает все, что соответствует возможности правила. Разум допускает все объекты, совместимые с применением его правила, и противостоит тем, которые ему противоречат. Безнравственные действия противоречат правилу, поскольку они не могут стать всеобщим правилом, и разум противостоит им, потому что они происходят вопреки применению его правила. Следовательно, в силу своей природы в разуме заключена движущая сила.
Таким образом, обстоятельства должны быть таковы, чтобы согласовываться со всеобщей формой разума, так чтобы в любое время они могли стать правилом. Но что является причиной действия, когда оно не морально? Разум или воля? Разум ошибается, если он недостаточно обучен различать действие, и тогда действие будет морально несовершенным; однако испорченность или зло действия заключается не в суждении и не в разуме, а зависит от мотива воли. Даже если человек научился судить все действия, он может ошибаться в мотивах, по которым совершает эти действия.
Безнравственность действия состоит, следовательно, не в недостатке разума, а в испорченности воли или сердца. Испорченность воли происходит, когда движущая сила чувственности преобладает над силой разума. Разум не обладает elateres animi, хотя и обладает побудительной силой, но не способной преобладать над elateres чувственности.
Та чувственность, которая совпадает с побудительной силой разума, была бы моральным чувством; конечно, мы не можем чувствовать доброту действия, но разум противостоит дурному действию, потому что оно противоречит правилу. Это сопротивление разума является основанием мотивации. Моральное чувство было бы этим основанием мотивации разума, которое могло бы служить мотивом в согласии с чувственностью.
Разум не ненавидит, но исследует ненавистное и противостоит ему; чувственность же должна только ненавидеть; когда чувственность ненавидит то, что разум считает ненавистным, возникает моральное чувство.
Невозможно заставить человека чувствовать отвращение к пороку. Я могу только сказать ему то, что анализирует мой разум, и заставить его тоже это анализировать, но нельзя заставить его чувствовать отвращение, если его чувства лишены такой восприимчивости.
Когда человек считает действие ненавистным, он желает, чтобы все так считали, и чтобы только он один мог извлечь из этого выгоду; это он чувствует лучше, если у него что-то есть в кармане. Следовательно, это трудная задача.
Человек не обладает столь тонкой структурой, чтобы быть мотивированным объективными основаниями; не существует никакого природного механизма, который мог бы вызвать нечто подобное. Мы можем создать только habitus, который не является природным, хотя и поддерживается природой, и становится habitus через подражание и частое повторение.
Но все методы сделать пороки ненавистными оказываются неэффективными. Уже с юности нам следует прививать непосредственное отвращение к таким действиям, что имеет лишь прагматическую пользу.
Мы не должны представлять действие как запрещенное или вредное, но как отвратительное само по себе. Например, ребенок, который лжет, не должен быть наказан, но пристыжен; следует вызвать отвращение, презрение ко лжи, как если бы она была покрыта нечистотами.
Путем частого повторения мы можем вызвать у него такое отвращение к этому действию, что оно станет для него привычкой. В противном случае, будучи наказанным в школе, он может подумать, что вне школы такие действия не наказуемы, и поэтому всегда будет искать возможность избежать телесных наказаний.
Так же думают и старики, которые решают раскаяться незадолго до смерти, как если бы они поступали морально всю жизнь; поэтому они считают внезапную смерть великим несчастьем.
В конечном итоге, воспитание и религия должны преодолеть все это и внушить непосредственное отвращение к дурным действиям и непосредственную радость от морали.
Baumgarten говорит далее, de littera legis.
De littera legis.
Littera legis – это связь закона с причинами и основаниями, на которых он основан. Мы можем исследовать значение закона, анализируя принцип, из которого он выведен, но мы также можем определить его смысл, не рассматривая принцип.
Anima legis – это смысл, который слова имеют в законе. Слова имеют определенное значение, но они также могут иметь смысл, отличный от общепринятого, и это есть anima legis; например, в положительном законе Бога о субботе, смысл которой не просто отдых, но торжественный отдых.
Когда говорят, что anima legis обозначает дух закона, имеют в виду не столько его смысл, сколько его мотивацию. Во всяком законе действие, которое совершается в соответствии с ним, соответствует littera legis. Но дух закона заключается в намерении, ради которого это действие совершается. Само действие есть littera legis pragmaticae, но намерение есть anima legis moralis.
Прагматические законы не имеют духа, поскольку они не требуют намерений, а только действий; но моральные законы содержат дух, поскольку они требуют намерений, и действия лишь выражают эти намерения.
Таким образом, тот, кто выполняет действия без добрых намерений, соблюдает закон quod litteram, но не согласно его духу.
Можно соблюдать божественные и моральные законы, как прагматические, quod litteram; например, кто-то, думающий перед смертью: если есть Бог, Он должен вознаградить все добрые дела, считая, что если у него есть возможность, он не может употребить ее ни на что лучшее, так что, совершая добрые дела, он делает это с единственной целью быть вознагражденным Богом, что отражено в библейском отрывке, где говорится о неправедном Маммоне и сказано, что дети тьмы мудрее детей света; таким образом, тот, кто делает то, что требует моральный закон, но без намерения сделать это, соблюдает закон quoad litteram.
Однако в этом случае anima legis moralis не удовлетворяется; он требует моральных намерений.
Мотив, по которому совершается действие, отнюдь не безразличен. Следовательно, моральный закон – только тот, который содержит дух; вообще объект разума обладает духом, но личная выгода не является объектом разума, так что действие, движимое этой целью, лишено духа.
Baumgarten подходит к разъяснению права столь поспешно, что проясняет лишь некоторые термины, одновременно затрагивая как этическое, так и юридическое.
Обязанность является этической, когда ее основание заключается в самом действии, но она является юридической, когда основание обязанности лежит в чужой воле.
Отличительные черты этики заключаются в следующем:
1) она отличается от права в отношении законов, которые относятся не к другим людям, а только к Богу и к самому себе;
2) когда она касается других законов, обязанность имеет свое основание не в чужой воле, а в самом действии;
3) мотив исполнения обязанности – не принуждение, а свободное намерение или долг.
Внешняя мотивация влечет за собой принуждение, и соответствующее действие является юридическим; внутренняя мотивация есть долг, и тогда действие этическое.
В сфере юридической обязанности не спрашивают о намерении, которое может быть любым, лишь бы действие совершалось. В этической обязанности мотив должен быть внутренним; действие должно совершаться потому, что это должное: я должен выплатить свой долг не потому, что другой может принудить меня к этому, а потому, что это правильно.
Baumgarten далее говорит о нарушении закона, соблюдении законов и лицах, которым наносится вред при нарушении законов, или о причиняемом им ущербе.
Закон не терпит ущерба, но нарушается, однако человек может пострадать. В этике ущерба нет, поскольку я никому не наношу ущерба, если исполняю этические обязанности. Но oppositio juris alterius – это ущерб.
Антиномия или противопоставление может иметь место в законах, если они лишь указывают основание обязанности; но когда законы обязывают сами по себе, они не могут противоречить друг другу.
Baumgarten предполагает три принципа, которые принимаются за аксиомы морали:
1) honeste vive,
2) neminem laede,
3) suum cuique tribue.
Первый принцип, honeste vive, может считаться всеобщим принципом этики, поскольку мотив исполнения его обязательности – не принуждение, а внутренняя мотивация.
Honestas означает поведение, которое является почетным, а также свойство человека, который так поступает. Этот принцип гласит: «делай то, что составляет для тебя предмет уважения и почтения».
Все наши обязанности перед самими собой вызывают уважение в наших собственных глазах и одобрение со стороны других. Чужая порочность вызывает ненависть, недостойность – презрение.
Таким образом, согласно этому принципу, следует показать, что человек достоин, так что, если это признано всеми, он заслуживает уважения и признания со стороны всех.
Напротив, противоестественные пороки таковы, что оскорбляют человечество в собственной личности; тот, кто их практикует, недостоин, и если это становится общеизвестным, он будет презираем.
Положительная оценка – это ценность тех действий, которые заслуживают похвалы, которые содержат больше, чем должны. Но эта оценка будет лишь не-недостойной, если речь идет об устранении всего вредного; это честно, но не заслуживает похвалы; это как минимум моральности, поскольку находится на шаг от подлости.
Поэтому очень плохо положение той страны, где честность переоценивается, поскольку, когда ее мало, она ценится еще больше.
Однако те действия, которые являются этическими, содержат больше, чем требует долг. Если, действуя, я делаю только то, что должен, я веду честную жизнь, но не заслуживаю никакой похвалы. Но если я делаю больше, чем должен, это действие достойно уважения и находится в сфере честности.
Следовательно, этот принцип этики возможен.
Два других принципа – neminem laede и suum cuique tribue – могут считаться принципами юридической обязанности, поскольку они относятся к принудительным обязанностям.
Оставить каждому свое означает: ты должен оставить каждому то, что он может потребовать от тебя по принуждению.
Оба принципа могут быть связаны с другим, поскольку, когда я отнимаю у кого-то его собственность, я причиняю ему вред.
Я могу причинить вред кому-то либо бездействием, если не дам ему его, либо действием, если отниму у него его.
Таким образом, я могу отнять у кого-то его собственность отрицательно и положительно. Отрицательная форма важнее, поскольку важнее не отнимать у другого его, чем не давать ему его.
Ущерб основывается, следовательно, на действии, которое противоречит закону другого, поскольку я причиняю вред лицу, которое имеет право требовать от меня что-то необходимое согласно всеобщим законам свободной воли.
В морали законы связаны с чужым счастьем. Ethice obligans respectu aliorum est felicitas aliorum, juridice obligans respectu aliorum est arbitrium aliorum.
Первое условие всякой этической обязанности – чтобы юридическая обязанность была предварительно удовлетворена.
Та обязанность, которая вытекает из права другого, должна быть удовлетворена предварительно, поскольку, если я нахожусь под юридической обязанностью, я не свободен, так как подчинен чужой воле.
Однако, если я хочу исполнить этический долг, тогда я хочу исполнить свободный долг; если я еще не свободен от юридической обязанности, я должен сначала освободиться от нее, исполнив ее, и только потом могу исполнить этический долг.
Многие оставляют свои обязательные обязанности, желая исполнить заслуженные. Так поступает тот, кто, совершив множество несправедливостей и отняв у многих их имущество, в конце концов жертвует свои богатства больнице. Но пронзительный и непреклонный голос торжественно провозглашает, что человек еще не исполнил всего, что обязан был сделать по долгу, и это нельзя обойти, так что такие заслуженные деяния становятся еще большими преступлениями, поскольку они предложены как взятка Высшему Существу для смывания вины. Таким образом, счастье не является главной мотивацией всех обязанностей. Поэтому никто не может сделать меня счастливым против моей воли " , не совершив несправедливости по отношению ко мне. Один из способов принудить другого – навязать ему, как он должен быть счастлив; такова уловка знати по отношению к подданным.
О законодателе.
Следует различать моральный закон и прагматический закон. В первом смысл заключается в намерении, во втором – в действиях. Поэтому власти обязывают к действиям, а не к намерениям. Прагматические законы могут быть даны, это легко проанализировать, но если кто-то может устанавливать моральные законы и повелевать нашими намерениями – которые не в его власти – это требует тщательного рассмотрения. Тот, кто провозглашает, что закон – согласно его воле – обязывает другого, дает закон. Не всегда законодатель является также автором закона; только если законы условны. Если законы практически необходимы, тот, кто их провозглашает – так, чтобы они соответствовали его воле – является лишь законодателем, но не их автором. Нет ни одного существа, даже божественного, которое было бы автором моральных законов, поскольку они происходят не из произвола, а практически необходимы; эти законы не были бы необходимы, если бы могло случиться так, что ложь стала добродетелью. Однако моральные законы могут находиться под законодателем; может существовать существо, обладающее всей силой и властью, чтобы исполнять эти законы, и способное объявить, что этот моральный закон одновременно является законом его воли и обязывает всех действовать согласно ему. Таким образом, это существо – законодатель, но не автор закона. Подобно тому, как Бог не является причиной того, что треугольник имеет три угла.
Дух моральных законов заключается в чувствах, и моральные законы также могут рассматриваться как божественные, поскольку воля Бога соответствует им. Однако моральные законы могут также рассматриваться как прагматические законы Бога, поскольку мы видим только действия, предписанные в законах; моральный закон требует, например, способствовать счастью всех людей, и этого же хочет Бог; действуя согласно моральному закону и творя милосердие с целью, чтобы Бог вознаградил нас за это, я действую не из моральных чувств, а ради вознаграждения от божественной воли. Поскольку человек прагматически удовлетворяет божественный закон, но все же исполняет его, ему обещано великое счастье, так как он сделал то, что хотел Бог, даже если чувство было нечистым. Но Бога интересует только то, чтобы душевный настрой соответствовал морали и, следовательно, его воле, становясь таким образом законом. Действие, совершаемое в соответствии с моралью, есть наибольшее соответствие божественной воле. Таким образом, мы рассматриваем Бога не как прагматического законодателя, а как морального.
О наградах и наказаниях.
Не следует путать praemium in с merces. Praemia бывают либо auctorantia, либо remunerantia. Auctorantia – это те награды, которые являются мотивами для действий, так что действие совершается исключительно ради обещанного вознаграждения; remunerantia – это награды, которые не являются мотивами для действий, совершаемых ради доброго расположения духа, ради чистой морали. Первые – стимулирующие награды, вторые – воздающие. Таким образом, praemia auctorantia не могут быть moralia, тогда как praemia remunerantia могут. Auctorantia прагматичны, а remunerantia моральны. Тот, кто совершает действие ради физического благополучия, то есть исключительно ради ожидаемого вознаграждения, лишен морали в своих aedones и, следовательно, не может ожидать praemia remunerantia, а только auctorantia. Но aedones, совершаемые ради добрых чувств и чистой морали, могут получить praemia remunerantia. Praemia auctorantia – это лишь естественные и предсказуемые последствия; например, здоровье – это praemium auctorans умеренности; но я также могу быть умеренным из моральных побуждений. Так, когда честность проявляется ради выгоды и одобрения, она получает praemium auctorans. Тот, кто действует из моральных побуждений, заслуживает praemium remunerans. Эти praemia больше, чем auctorantia, поскольку в этом случае речь идет о соответствии действия морали, а это – высшее достоинство счастья. Поэтому praemia moralia должны быть больше, чем pragmatica. Praemia moralia обладают добротой. Морально доброжелательный человек заслуживает бесконечной награды и счастья, поскольку всегда готов совершать добрые дела. Нехорошо, если в религии представлены praemia auctorantia и если нужно быть моральным, потому что в будущем будешь вознагражден, ведь ни один человек не может требовать, чтобы Бог вознаградил его и сделал счастливым. Человек может надеяться на награду от Высшего Существа, Которое знает, как возместить ему это; однако эта компенсация не должна быть мотивом его действия. Человек может надеяться быть счастливым, но эта надежда не должна мотивировать его, а лишь утешать. Тот, кто живет морально, может ожидать награды за это, но не должен позволять этому мотивировать себя, поскольку люди не имеют адекватного представления о будущем счастье; никто не знает, в чем состоит то, что провидение тщательно скрывает от нас. Если бы человек знал это счастье, он желал бы достичь его как можно скорее. Но поскольку никто не обладает таким знанием, всегда хочется оставаться здесь как можно дольше, и хотя каждый жаждет этого будущего счастья – которое ценит гораздо больше, чем эту жизнь, полную страданий – также верно, что никто не хочет ускорить свое вступление в него, думая, что еще слишком рано его достигать, и, кроме того, естественно желать больше испытать эту настоящую жизнь, поскольку она может быть познана и ощущена более ясно. Поэтому бесполезно представлять praemia как auctorantia, хотя они должны быть представлены как remunerantia, и этого ожидает каждый человек, ведь моральный закон несет это обещание для субъекта, обладающего добрыми моральными чувствами, даже если ему не разъясняли и не рекомендовали эти praemia remunerantia. Каждый честный человек имеет эту веру, и невозможно быть честным, не ожидая одновременно – по аналогии с физическим миром – что он также будет вознагражден. По той же причине, по которой он верит в добродетель, он верит и в награду.









