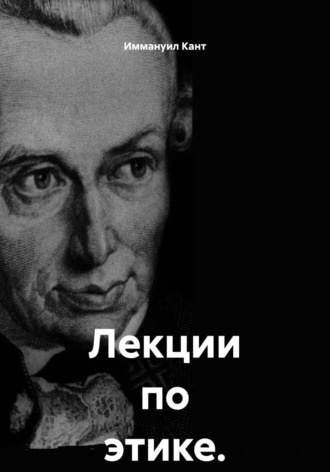
Полная версия
Следовательно, все эти афоризмы не являются принципами моральности.
О моральном принуждении.
Во-первых, мы должны учитывать, что принуждение может быть двух видов: объективное и субъективное. Субъективное – это представление действия в субъекте per stimulos или per causas impulsivas. Объективное принуждение происходит, когда необходимость действия основывается на объективных мотивах. Субъективное принуждение – это принуждение человека тем, что имеет наибольшую принудительную силу внутри самого субъекта. Это принуждение, следовательно, не является необходимостью, а навязыванием действия. Но существо, которое принуждается, должно быть таковым, что не совершило бы это действие без принуждения, имея причины против этого действия. Таким образом, Бог не может быть принужден. Принуждение – это навязывание действия, которое происходит неохотно. Это навязывание может быть объективным и субъективным. Так, из-за склонности отказываются от чего-то неохотно, делая это ради другого; например, скупой упускает маленькую выгоду, когда получает большую, но неохотно, ибо предпочел бы иметь обе. Всякое принуждение бывает pathologicum или practicum. Pathologicum принуждение – это необходимое совершение действия per stimulos; practicum принуждение – это необходимое совершение действия, которое происходит неохотно per motiva. Ни один человек не может быть принужден pathologice из-за свободной воли. Человеческая воля есть arbitrium liberum, которое не принуждается per stimulos. Воля животного – это arbitrium brutum, а не liberum, ибо может быть принуждена per stimulos. Так, например, когда человека побуждают к действию множеством мучительных страданий, он, несмотря на это, может не быть принужден действовать и переносить страдание. Правда, он может быть принужден сравнительно, но не строго, ибо у него всегда есть возможность избежать чувственных побуждений, что составляет природу liberum arbitrium! Животные побуждаются per stimulos, так что собака должна есть, когда голодна и перед ней еда; однако человек может воздержаться в том же случае. Следовательно, человек может быть принужден pathologice, но только сравнительно (например, пыткой). Действие, которому нельзя сопротивляться, необходимо. Те мотивы, которые не могут противостоять человеческим силам, являются принудительно неодолимыми. Однако человек может быть принужден practice per motiva, хотя правильное выражение в этом случае – не «принужден», а «побужден» (bewogen). Это принуждение не субъективно, ибо иначе оно не было бы practice, происходя per motiva, а не per stimulos, поскольку stimuli суть motiva subjective moventia.
Действие может быть практически необходимым для свободного существа до такой степени, что его нельзя преодолеть, при условии, что оно не противоречит свободе. Таким образом, Бог необходимо должен вознаграждать людей, чье поведение соответствует моральному закону, действуя согласно правилу наилучшего желания, поскольку такое поведение согласуется с моральным законом и, следовательно, с божественным arbitrium. Так честный человек может не лгать и, если солжет, сделает это неохотно. Следовательно, могут существовать необходимые действия без противоречия свободе. Эта практическая принудительность может иметь место только у человека, но не у Бога. Например, никто не расстается охотно со своим имуществом, но если только так можно спасти его ребенка, он делает это под патологическим давлением и, следовательно, будучи принужденным мотивами разума, то есть принужденным без противоречия свободе. Конечно, мы совершаем такие действия с неохотой, но делаем это, потому что они хороши.
О практическом принуждении.
Принуждение бывает не только патологическим, но и практическим. Практическое принуждение не субъективно, а объективно, ибо если бы оно было субъективным, то стало бы патологическим necessitatio. Свобода не допускает иного принуждения, кроме практического per motiva. Эти motiva могут быть pragmatica или moralia. Pragmatica берутся из bonitas mediata. Moralia берутся из bonitas absoluta свободного arbitrium.
Чем более человек морально принужден, тем он свободнее. Чем сильнее патологическое принуждение – что происходит лишь в сравнительном смысле – тем меньше свободы. Но подчеркнем: чем более человек принужден морально, тем он свободнее. Моральное принуждение осуществляется через motiva objective moventia, через побудительные мотивы разума, которые, лишенные каких-либо стимулов, обеспечивают наибольшую свободу. Следовательно, высшая степень свободы свойственна моральному принуждению, ибо оно укрепляет arbitrium liberum, освобождая его от stimuli, поскольку может быть ограничено мотивами. Человек освобождается от стимулов обратно пропорционально своему моральному принуждению. Свобода возрастает со степенью моральности. В Боге нет никакой practica necessitatio, ибо в Нем субъективные и объективные законы – одно и то же; но у человека practica necessitatio имеет место, поскольку он действует с неохотой, будучи принужденным. Чем более он склоняется к моральным мотивам, тем свободнее становится.
Тот, кто свободнее, имеет меньше обязательств. Поскольку кто-то подчинен обязательству, он несвободен, но как только обязательство прекращается, он становится свободным. Следовательно, наша свобода уменьшается с обязательством, но у Бога свобода не уменьшается с моральной необходимостью, ибо вполне добрая воля не обязана перед ней; такая воля, которая желает всего хорошего сама по себе, не может быть обязана, но люди, поскольку их воля дурна, могут быть обязаны. Таким образом, человек несвободен, когда принимает благодеяние; однако сравнительно мы можем быть свободнее в одних случаях, чем в других.
При obligatio passiva человек менее свободен, чем при obligatio activa. Мы не можем быть принуждены действовать великодушно, но обязаны это делать. Мы можем быть принуждены к действиям долга, попадая тогда под obligatio passiva. Тот, кто подчинен obligatio passiva перед кем-то, менее свободен, чем тот, кто может его обязать.
У нас есть obligationes internae erga nosmet ipsos, в отношении которых мы полностью свободны внешне; каждый может делать со своим телом что угодно, ибо это никого не касается, но внутренне человек несвободен, ибо связан существенными и необходимыми целями человечества.
Всякое обязательство есть вид принуждения; в сфере морального принуждения мы либо принуждаемся внешне, либо принуждаем себя сами; последнее есть coactio interna. Человек может быть морально принужден другим, когда тот навязывает ему на основе моральных мотивов действие, совершаемое с неохотой. Например, допустим, я должен кому-то, и он говорит: «Если хочешь быть честным человеком, ты должен заплатить; я не стану тебя обвинять, но и не могу простить долг, ибо нуждаюсь в том, что ты мне должен» – в этом случае имеет место внешнее моральное принуждение, вызванное чужим arbitrium. Чем более человек может принуждать себя, тем он свободнее. И чем менее позволительно другим принуждать его, тем более он внутренне свободен. Здесь еще следует различать способность быть свободным и состояние свободы. Способность может быть велика, даже если состояние неблагоприятно. Чем больше моя способность быть свободным, чем более свобода освобождена от stimuli, тем свободнее человек. Если бы человек не нуждался в самопринуждении, он был бы совершенно свободен; его воля была бы тогда полностью хорошей, и он охотно совершал бы все благое, не нуждаясь в самопринуждении; но это не так для человека, хотя одни ближе к этому, чем другие, ибо у одних чувственные stimuli сильнее, чем у других. Чем больше упражняется самопринуждение, тем свободнее человек. Некоторые по природе склонны к великодушию, снисходительности и честности и потому могут лучше принуждать себя и быть свободнее. Но ни один человек не избавлен от самопринуждения.
Обязательство бывает внутренним или внешним. Obligatio externa est necessitatio moralis per arbitrium alterius. Obligatio interna est obligatio moralis per arbitrium proprium. Arbitrium есть желание, находящееся в моей власти. Жажда же есть желание, не находящееся в моей власти. Принуждение через чужое arbitrium есть external necessitatio moralis, ибо это чуждое существо имеет власть принуждать меня, и возникающее отсюда обязательство есть obligatio externa. Necessitatio moralis, происходящая не через чужое arbitrium, а через собственное, есть internal necessitatio moralis, и возникающее обязательство есть obligatio interna. Например, обязательство помочь кому-то есть внутреннее. Возмещение обиды морально необходимо из-за чужого arbitrium и есть obligatio externa.
External obligationes больше, чем internal, ибо external obligationes одновременно internal, но не наоборот. External obligatio предполагает, что действия уже подчинены моральности и, следовательно, внутренни; external obligatio есть обязательство, поскольку действие уже internal obligatio. Ибо то, что действие есть долг, составляет internal obligatio, но поскольку я всегда могу принудить другого исполнить этот долг, оно также есть external obligatio. В external obligatio мое действие должно согласовываться с arbitrium другого, и я также могу быть им принужден. External obligatio может быть навязано патологически другим; если кто-то не поддается моральному принуждению, всегда остается патологическое принуждение. В конечном счете, всякое право содержит атрибут патологического принуждения.
Internal obligationes несовершенны, ибо мы не можем быть принуждены к ним. Однако external obligationes совершенны, ибо в них, помимо internal obligatio, присутствует external необходимость.
Обязательство, согласно которому мы исполняем всякое обязательство, либо внутреннее – тогда оно называется долгом, либо внешнее – тогда оно называется принуждением. Если я исполняю обязательство по чужому arbitrium, то я принужден к этому, ибо это внешняя мотивация, и я совершаю действие по принуждению; следовательно, stimulus pro arbitrium alterius necessitans est coactio. Но если я исполняю действие по собственному arbitrium, то мотивация внутренняя, и я совершаю действие по долгу. И тот, кто исполняет обязательство по долгу, и тот, кто исполняет его по принуждению, выполняют обязательство, но первый делает это из внутренней мотивации, а второй – из внешней. Суверен не интересуется, какой мотивацией исполняются обязательства перед ним, ему безразлично, исполняются ли они по долгу или по принуждению. Но родители требуют от детей исполнения обязательств по долгу. Следовательно, когда Баумгартен делит обязательство по критерию исполнения по долгу или по принуждению, он ошибается. Обязательство нельзя так делить, ибо принуждение не содержит обязательства; обязательства должны различаться сами по себе, в зависимости от того, происходят ли они ex arbitrium alterius – тогда они external – или ex arbitrium proprio – тогда они internal. Только motiva satisfaciendi всякого обязательства могут быть external или internal, и их можно так различать: внутренние мотивации, исходящие из моего arbitrium, суть долги; исходящие из чужого arbitrium – принуждение. Обязательства же могут быть любыми.
Объективные мотивы берутся из объекта и суть основания того, что мы должны делать. Субъективные мотивы суть основания чувства и определения воли, правила для совершения чего-либо. Согласно объективным основаниям, обязательства бывают внутренними и внешними; согласно субъективным основаниям – долгом или принуждением.
Obligationes, чьи мотивации субъективны или внутренни, суть этические обязательства. Те, чьи мотивации объективны или внешни, суть строго юридические; первые суть обязательства долга, вторые – принуждения. Различие между правом и этикой покоится не на характере обязательства, а на мотивах исполнения обязательств. Этика говорит обо всех видах обязательств, будь то обязательства благожелательности, благородства, доброты или долга; этика учитывает всякое обязательство, чья мотивация внутренняя, и оценивает его по долгу и внутренней природе самой вещи, а не по принуждению. Право же рассматривает исполнение обязательства не по долгу, а по принуждению; обязательства рассматриваются так, как они поддерживаются через принуждение.
У нас есть обязательства перед Богом; но Бог требует не только исполнения этих обязательств, но и того, чтобы мы делали это охотно на основе внутренних мотиваций. Obligationes перед Богом не исполняются вполне удовлетворительно, если делаются через принуждение; они должны исполняться по долгу. Когда я делаю что-то из хорошего чувства, я делаю это по долгу, и действие этично, но если я делаю это только по принуждению, действие лишь юридически правильно. Таким образом, истинное различие обязательств – при делении их на internal и external, но различие между этикой и правом покоится не на этом, а на мотивах этих обязательств, ибо мы можем исполнять обязательства по долгу и по принуждению. Чужое arbitrium может заставить меня исполнить external obligatio, даже если не принуждает меня, и я исполню его по долгу; однако если оно действительно принуждает меня, то я исполняю его по принуждению. External obligatio не становится таковой лишь потому, что я могу быть принужден к нему. Из обязательства вытекает как следствие атрибут принуждения.
О ЗАКОНАХ.
Всякая формула, выражающая необходимость моих действий, есть закон. Таким образом, могут существовать естественные законы, в которых действия подчинены всеобщему правилу, а также практические законы. Все законы бывают физическими или практическими. Практические законы выражают необходимость свободных действий и бывают либо субъективными, поскольку они осуществляются людьми, либо объективными, поскольку они должны иметь место. Объективные законы делятся на два вида: прагматические и моральные. Здесь мы будем рассматривать последние.
Право, поскольку оно обозначает законность, заключается в соответствии действия правилу права при условии, что действие не противоречит произволу или моральной возможности действия, то есть не противоречит моральному закону. Право как наука – это совокупность всех юридических законов. Jus in sensu proprio est complexus legum obligationum externarum, quatenus simul sumuntur. Jus in sensu proprio est vel jus late dictum, vel jus stricte dictum. Jus late dictum – это право справедливости. Jus stricte dictum – это право в строгом смысле как принудительная власть. Таким образом, существует общее право и принудительное право. Этика противопоставляется jus strictum, но не праву вообще. Этика относится к законам свободных действий, поскольку мы не можем быть принуждены к ним. Jus strictum, напротив, относится к законам свободных действий, поскольку мы можем быть принуждены к ним. Jus stricte бывает либо positivum seu statutarium, либо jus naturale. Jus positivum происходит от человеческого произвола, тогда как jus naturale основан на разумном рассмотрении природы действий. Jus positivum est vel divinum vel humanum. Jus positivum содержит предписания, тогда как jus naturale заключает в себе законы. Божественные законы одновременно являются божественными заповедями, то есть jus naturale есть также jus positivum божественной воли, но не потому, что они содержатся в Его воле, а потому, что они заключены в природе человека. Все божественные законы суть законы естественные, хотя Бог может дать и позитивный закон. Как jus positivum, так и jus naturale могут быть общим правом или принудительным правом. Многие законы суть лишь законы справедливости. Однако jus equitatis мало разработано, и было бы желательно, чтобы суды судили согласно этому принципу, поскольку они должны судить valide; тем не менее, jus equitatis не является внешним правом и действительно только coram foro conscientiae. В сфере jus positivum et naturale всегда речь идет о jus strictum, а не о jus equitatis, ибо последнее относится исключительно к этике. Все обязанности, включая принудительные, в равной мере принадлежат к сфере этики, если мотив их исполнения проистекает из внутреннего расположения. Законы могут относиться к праву или к этике в зависимости от их содержания, а также от мотива их применения. Землевладелец не требует, чтобы налоги уплачивались охотно, но этика требует, чтобы эта обязанность исполнялась с радостью; однако и тот, кто платит налоги охотно, и тот, кто делает это из-за принуждения, в равной мере являются подданными.
Расположение духа не может быть требовано сувереном, поскольку его внутренняя природа не позволяет его распознать. Однако этика предписывает действовать из доброго расположения духа. Соблюдение божественного закона – единственный случай, когда право и этика совпадают, образуя оба принудительные законы по отношению к Богу, ибо Бог может принуждать как к этическим, так и к юридическим действиям, но требуя такие действия не из-за принуждения, а из чувства долга. Следовательно, действие может обладать rectitudo juridica, поскольку оно соответствует принудительным законам, но соответствие действия законам из-за расположения и долга относится исключительно к моральности, которая заключается в доброжелательном расположении духа. Таким образом, следует различать моральную доброту действия и rectitudo juridica. Rectitudo – это род, и если она лишь юридическая, то лишена моральной доброты. Так, религия может соблюдать rectitudo juridica, если божественная заповедь исполняется из-за принуждения, а не из доброго расположения духа. Но Богу важны не действия, а сердце. Сердце есть принцип морального расположения. Поэтому Бог желает моральной доброты, и она заслуживает награды. Следовательно, следует воспитывать расположение к исполнению обязанностей, и именно это говорит Учитель Евангелия, утверждая, что всё должно делаться из любви к Богу. Любить Бога – значит охотно исполнять Его заповеди.
Leges могут быть praeceptivae, когда они что-то предписывают, prohibitivae, когда они запрещают определенные действия, и permissivae, когда они разрешают другие. Complexus legum praeceptivarum est jus mandati, complexus legum prohibitivarum est jus vetiti; можно представить также и jus permissi.
О высшем принципе моральности.
Прежде всего, здесь следует различать две части: 1) принцип распознавания обязанности и 2) принцип исполнения или осуществления обязанности. В этом контексте следует различать критерий и побуждение. Критерий – это принцип распознавания, а побуждение – принцип осуществления обязанности; если смешать эти два аспекта, всё в сфере морали окажется ложным.
Если вопрос звучит: «Что морально хорошо, а что нет?», то вступает в силу принцип распознавания, благодаря которому я сужу о доброте действий. Но если вопрос таков: «Что побуждает меня жить согласно закону?», то здесь появляется принцип побуждения. Справедливость действия – это объективное основание, но не субъективное. Те мотивы, которые побуждают меня делать то, что разум говорит мне делать, суть motiva subjective moventia. Высший принцип всякой моральной оценки покоится на разуме, а высший принцип морального побуждения к совершению действия – на сердце. Это побуждение формирует моральное расположение. Этот принцип побуждения нельзя смешивать с принципом распознавания. Принцип распознавания – это норма, а принцип побуждения – это мотив. Норма находится в разуме, но мотив пребывает в моральном расположении. Мотив не должен заменять норму. Это влечет за собой как практическую ошибку, уничтожающую побуждение, так и теоретическую ошибку, разрушающую суждение. Теперь мы кратко покажем в отрицательной форме, в чем не заключается принцип моральности. Принцип моральности не патологичен; он был бы патологическим, если бы исходил из субъективных принципов, наших склонностей, наших чувств. Мораль не имеет никакого патологического принципа, ибо она содержит объективные законы того, что должно быть сделано, а не того, что желательно сделать. Мораль состоит не в анализе склонности, а в предписании, которое противоречит всякой склонности. Патологический принцип моральности заключается в удовлетворении всех склонностей, что было бы грубым эпикурейством, но даже и подлинный эпикуреизм не таков.
Мы можем представить два principia patologica моральности. Первое касается удовлетворения всякой склонности, и это есть физическое чувство. Второе касается удовлетворения склонности, соответствующей моральности, и потому основывается на интеллектуальной склонности; однако, как мы сейчас покажем, интеллектуальная склонность предполагает противоречие, ибо чувство, относящееся к объектам разума, есть нечто абсурдное и, следовательно, невозможное. Я не могу считать чувство чем-то идеальным, оно не может быть одновременно интеллектуальным и чувственным; и даже если бы было возможно испытывать ощущение относительно моральности, мы не могли бы установить никакого правила из этого принципа, поскольку моральный закон категорически говорит, что должно произойти, нравится это или нет, и потому не удовлетворяет нашей склонности. Более того, не могло бы быть никакого морального закона, но каждый хотел бы действовать согласно своему чувству. Если бы закон был чувством, одинаково сильным у всех людей, то не было бы никакой обязанности действовать согласно этому чувству, ибо это могло бы означать не то, что мы должны делать то, что нам нравится, а то, что каждый сам хотел бы делать это, потому что ему это приятно. Но моральный закон предписывает категорически, поэтому моральность не может основываться на патологическом принципе, равно как и на физическом моральном чувстве. Этот метод обращения к чувству в практическом правиле также полностью противоречит философии. Любое чувство действительно лишь приватно и непонятно для других; оно патологично по своей природе; когда кто-то говорит, что чувствует что-то внутри себя, это не может иметь значения для других, которые не знают, как он это чувствует, и тот, кто апеллирует к чувству, отказывается от всякого основания разума. Следовательно, патологический принцип неприемлем, и речь должна идти об интеллектуальном принципе, поскольку он берется из разума. Он заключается либо в правиле разума, поскольку разум предоставляет нам средства для согласования наших действий с нашими склонностями, либо в том, что основание моральности непосредственно признается разумом. Первое, несомненно, есть интеллектуальный принцип, поскольку именно разум предоставляет нам средства, но он явно основан на склонности. Этот псевдопринцип интеллектуальный есть прагматический принцип, который заключается в умении правила удовлетворять склонности. Такой принцип благоразумия есть подлинный эпикурейский принцип. В этом смысле утверждение: «Ты должен способствовать своему счастью» – означает: «Используй свой разум, чтобы придумать средства для удовлетворения своего удовольствия и своих склонностей»; этот принцип интеллектуален, поскольку разум должен изобретать средства для увеличения нашего счастья. Таким образом, прагматический принцип зависит от склонностей, ибо счастье состоит в удовлетворении всех склонностей. Но моральность не основывается ни на каком прагматическом принципе, поскольку она независима от всякой склонности. Если бы моральность имела отношение к склонностям, люди не могли бы согласиться в моральности, ибо каждый стремился бы к своему счастью согласно своим склонностям. Но поскольку мораль не может основываться на субъективных законах склонностей, принцип морали, следовательно, не прагматичен. Он, безусловно, должен быть интеллектуальным принципом, но не опосредованно, как прагматический, а непосредственным принципом моральности, поскольку основание моральности непосредственно признается разумом. Таким образом, принцип морали есть чистый интеллектуальный принцип чистого разума.
Однако этот чистый интеллектуальный принцип не может быть вновь тавтологичным и сводиться к тавтологии чистого разума, как предлагал Вольф: fac bonum et omitte malum – пустое и нефилософское предписание. Второй тавтологический принцип – это принцип Камберленда, который основывается на истине. Камберленд утверждает, что все мы ищем совершенства, но обманываемся видимостью; мораль учит нас истине. Третий – принцип Аристотеля: принцип середины, очевидно тавтологичный.
Этот чистый интеллектуальный принцип не должен быть, однако, principium externum, в том смысле, что наши действия имеют какое-то отношение к чужому существу, поэтому он не основывается на божественной воле. Нельзя сказать: «Не лги, потому что это запрещено», ибо принцип моральности не может быть externum и, следовательно, tautologicum. Те, кто утверждает это, говорят, что сначала нужно познать Бога, а затем моральность, чей принцип оказывается таким образом очень удобным. Мораль и теология не составляют принцип друг для друга, хотя теология не может существовать без морали, а мораль, в свою очередь, не может устоять без теологии; но здесь речь не о том, что теология есть побуждение морали – что так и есть —, а о том, является ли принцип распознавания морали тавтологичным, и он не может быть таковым. Если бы это было так, все народы должны были бы знать Бога прежде, чем иметь понятие о обязанностях, и, следовательно, народы, не имеющие адекватного понятия о Боге, не имели бы никаких обязанностей, что, однако, ложно. Есть народы, которые правильно знают свои обязанности и видят безобразие лжи, не имея адекватного понятия о Боге. Более того, существуют народы, которые сформировали ложное понятие о Боге и, тем не менее, имели правильные понятия относительно долга. Следовательно, обязанности должны быть взяты из какого-то другого источника. Причина выведения моральности из божественной воли заключается в том, что, утверждая, будто моральный закон предписывает делать нечто, думают, что должна быть третья инстанция, которая это запретила. Бесспорно, моральный закон есть заповедь, и могут быть заповеди божественной воли, но моральный закон не исходит из божественной воли. Бог повелел это, потому что это моральный закон, и Его воля согласуется с моральным законом. Более того, кажется, что всякая обязанность имеет отношение к тому, кто ее налагает, и потому можно сказать, что Бог есть obligans человеческих законов. Несомненно, в исполнении должна быть третья инстанция, которая принуждает делать то, что морально хорошо. Однако в сфере распознавания моральности нам не нужна такая инстанция. Моральные законы могут быть правильными без наличия третьей инстанции. Но в исполнении они были бы тщетны, если бы третья инстанция не принуждала нас к этому. Верно замечено, что моральные законы не имели бы силы без верховного судьи, ибо не было бы никакого внутреннего побуждения, никакой награды и никакого наказания. Таким образом, знание Бога необходимо для применения морального закона, ибо в противном случае те, кто совершенно невежествен в этом вопросе, не имели бы никакого морального закона и – как говорит сам Павел – судили бы его согласно своему собственному разуму. Следовательно, мы познаем божественную волю через наш разум. Мы представляем Бога как того, кто имеет святую и совершеннейшую волю, которая всегда действует согласно объективным основаниям.









