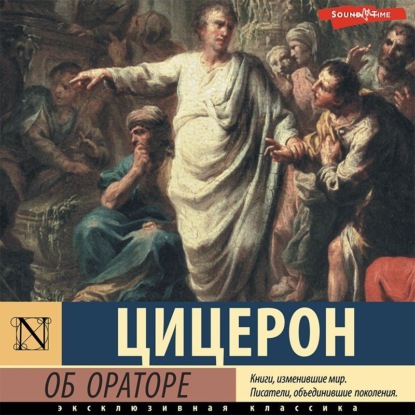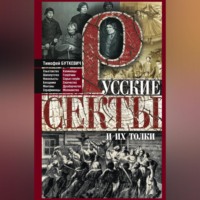Полная версия
Зло, его сущность и происхождение
Христианские отшельники не только отрекаются от мира, но прямо бегут от него в пустыню, потому что мир, по их справедливому убеждению, исполнен зла и соблазнов и представляет много препятствий в деле спасения и нравственного усовершенствования.
Мыслители и философы, если только они не переступают, ради своего мировоззрения, пределов благоразумия и здравомыслия, не могут не согласиться с указанием Божественного Откровения на то, что существующее в мире зло имеет универсальный характер, что оно разлилось по всему миру безбрежным потоком, что скорби и бедствия безмерно отягощают человеческую жизнь и что в этой земной жизни человек обречен как бы только на борьбу со страданиями, горем, бедствиями и всевозможными несчастиями.
Универсальность зла в мире и его постоянное развитие или усиление как в жизни людей, так и в окружающей человека природе признавали уже (за исключением скептиков) почти все древние языческие мыслители, как, например, Гераклит, Эмпедокл, Анаксагор, Сократ, Антисфен, Платон, Аристотель, стоики, эклектики, неоплатоники и т. п. Но было бы слишком утомительно приводить здесь мнения всех мыслителей, признающих за злом универсальный характер, тем более что в свое время нам придется довольно подробно излагать учение философов как древнего, так и нового времени о том, в чем, по их мнению, нужно полагать сущность зла и из какого источника оно происходит. Мы приведем, поэтому, здесь только мнение некоторых выдающихся новейших мыслителей.
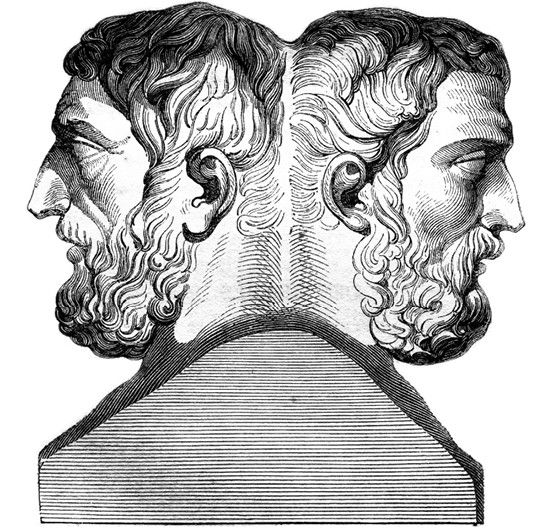
Кант начинает свое сочинение «Религия в границах простого разума» такими словами: «Что мир во зле лежит, это – жалоба, которая так же стара, как история, даже как еще более старо поэтическое искусство, древнейшая жреческая религия». По словам Канта, все одинаково думают, что мир начался добром: золотым веком, райской жизнью или какой-либо еще более счастливою жизнью в общении с небесным существом. Но это счастье, говорит он, скоро исчезает как сон. Впрочем, Кант знает и противоположное мнение, менее, однако же, распространенное и встречающееся только у некоторых философов и педагогов (из школы Руссо), по которому мир беспрерывно, хотя и едва заметно, движется будто бы как раз в обратном направлении: от худшего к лучшему. Кант, однако же, не одобряет этого мнения, потому, что оно почерпнуто не из личного опыта и нравственное усовершенствование в добре смешивается с цивилизацией – что очевидно не одно и тоже.
Возражение Канта против прогрессивизма состоит не в том, что он не совпадает с личным опытом или с личным императивом, но в том, что всеобщий императив разума не может быть обоснован частными социальными условиями. Можно представить мир разумных существ, не похожих на людей: у них не будет никакого движения от худшего к лучшему, например, в силу другого переживания времени, но при этом у них будет нравственный долг, без которого такой мир просто не выживет.
Впрочем, выставлять мрачную сторону мировой жизни в особенности любят философы-пессимисты. По учению, например, Шопенгауэра, жизнь мира состоит лишь в постоянном страдании, никогда не удовлетворяемом стремлении, в борьбе, которая никогда не заканчивается, в лишениях и скорбях, болезнях, вражде. Такую беспрерывную борьбу и враждебность, неудовлетворяемость беспрестанного стремления и бесцельность жизни Шопенгауэр усматривает уже в неограниченной природе и притом даже в таких простых явлениях, как тяготение, химическое сродство, электричество, гальванизм и т. д. Некоторый род физического страдания он находит присущим так называемым инфузориям, лучистым и насекомым. Но со всею ясностью и в поразительных «всепоглощающих» размерах зло, по его словам, обнаруживается в жизни высших животных и в особенности жизни человека. «Мы видим, – говорит Шопенгауэр, – как не только каждый старается вырвать у другого то, что он сам хочет иметь, но часто бывает даже так, что один, чтобы увеличить свое благополучие, хотя на самую незначительную ступень, разрушает все счастье или жизнь другого. Безграничная и ужасающая сила эгоизма, обнаруживаемого человеком, превышается лишь явлениями злости, которая совершенно бескорыстно ищет страдания других, без всякого расчета на свою собственную выгоду от этого». «Каждый, – говорит Шопенгауэр в другом месте, – кто пробудился от первых юношеских грез, принял в расчет собственный и чужой опыт, оглянулся на жизнь, на историю минувших и собственного веков, наконец, на произведения великих поэтов, без сомнения, если только какой-либо неизгладимый предрассудок не искалечил его суждения, признает результат, что мир людской есть царство случайностей и заблуждения, которые немилосердно в нем хозяйничают, в большом, как и в малом, но рядом с которым еще и глупость и злоба взмахивают своими бичами: из этого выходит, что все лучшее пробивается только с трудом, благородное и мудрое всегда редко доходят до проявления и достигают влияния или услышания; но бессмысленное и превратное в царстве мысли, плотское и безвкусное в царстве искусства, злое и коварное в царстве действия собственно владычествуют вполне, задерживаемые лишь краткими перерывами; напротив, превосходное во всяком роде составляет лишь исключение, один случай из миллионов, и потому, если оно высказалось в долговечном произведении, то последнее затем, переживая ненависть своих современников, стоит уединенно, хранится, подобно аэролиту, происшедшему из другого порядка вещей, чем здесь царствующий. Что касается жизни отдельного человека, – продолжает Шопенгауэр, – то каждая история жизни есть история страдания: ибо каждое жизненное поприще – большей частью непрерывный ряд больших и малых невзгод, которые, конечно, каждый по возможности скрывает, зная, что другие редко должны при этом испытывать участие или сожаление, а почти всегда чувствовать удовлетворение, представляя себе муки, от которых они именно теперь избавлены; но быть может никогда человек при конце своей жизни, если он благоразумен и чистосердечен, не захочет пережить ее еще раз, а скорее гораздо охотнее предпочтет этому совершенное небытие (?). Сущность содержания всемирно-славного монолога “Гамлета” в сокращении следующая: наше состояние столь жалко, что полное небытие решительно следовало бы ему предпочесть». Таким образом, Шопенгауэр, конечно, совершенно непреднамеренно приходит в своей оценке мировой жизни к такому же заключению, какое высказывают, как мы видели, Соломон и Иов, под невыносимым гнетом страданий сказавший: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек!.. Для чего не умер я, выходя из утробы и не скончался, когда вышел из чрева?» (Иов. 3:3, 11).
Шопенгауэр видел в неорганической материи не столько страдание само по себе, сколько предпосылку страдания, постоянно неудовлетворенное стремление. «Электричество распространяет свое внутреннее самораздвоение на бесконечность, хотя масса земного шара и поглощает его действие. Гальванизм, покуда существует столб, тоже представляет собою бесцельно и беспрестанно возобновляемый акт самораздвоения и примирения» (Мир как воля и представление. I, 56, пер. Ю. И. Айхенвальда). В неорганической материи есть принципиальная неполнота, которая воспринимается нами то как раздвоение, то как катастрофа, даже если эта катастрофа приводит к примирению, к погашению всех прежних импульсов. Поэтому благополучные развязки событий для Шопенгауэра всегда мнимы, любая развязка катастрофична в своей сути.
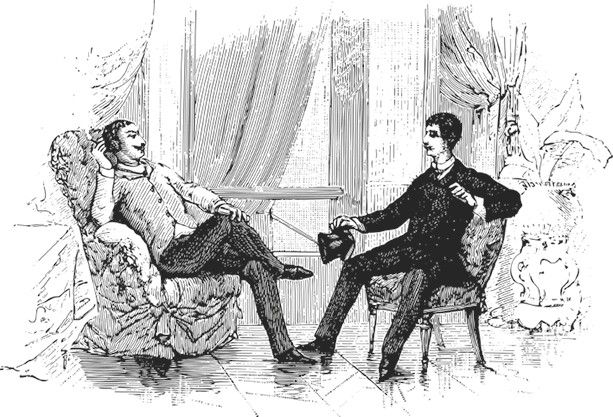
Оптимизм, по мнению Шопенгауэра, есть дело легкомыслия и непонимания жизни. Столь часто оплакиваемая краткость жизни, говорит он, быть может, именно и есть самое в ней лучшее. «Если бы каждому представить воочию ужасные страдания и муки, коим жизнь его постоянно открыта, он бы содрогнулся, и если провести упорнейшего оптимиста по больницам, лазаретам и хирургическим камерам истязаний, по тюрьмам, комнатам пыток и невольничьим хлевам, через поля сражений и места казней, затем раскрыть перед ним все мрачные обители нищеты, куда он заползает от взоров холодного любопытства, и под конец дать ему возможность заглянуть в башню голода Уголино, то наверное и он бы напоследок убедился, какого рода этот meilleur des mondes possibles [лучший из возможных миров]. Откуда же иначе Данте взял материал для своего Ада, как не из нашего действительного мира»?
Вообще, прочитав главное сочинение Шопенгауэра – «Мир как воля и представление», невольно выносишь впечатление, что его автор только иллюстрирует и философски раскрывает истину того положения, которое было высказано еще святым апостолом Иоанном, – что весь мир во зле лежит. Правда, Шопенгауэр накладывает слишком густые краски на свою картину, изображающую господство в мире зла, скорбей, бедствий и страданий, и через это впадает в крайность и односторонность, совершенно расходясь уже с учением Божественного Откровения. Святой апостол Иоанн, указывая на зло, господствующее в мире, как и ветхозаветные писатели – Иов, Соломон и Иисус сын Сирахов, имеет в виду только мир человеческий, царство греха. Вообще Священное Писание как Ветхого, так и Нового Завета весьма мало говорит о зле, проявляющемся во внешней природе; оно указывает нам по преимуществу только на бедствия, скорби и страдания человечества и притом – именно как на последствия греха, как на наказание за нарушение и оскорбление воли Божией. Шопенгауэр, напротив, всегда имеет в виду весь мир, как он вышел из рук Творца. Поэтому существенный недостаток в суждениях Шопенгауэра о свойстве и характере мировой жизни состоит главным образом в том, что Шопенгауэр видит в мире только проявление гнева Божия и как бы совершенно ничего не хочет знать о делах Божественной любви, милосердия, премудрости, благости и святости, следы которых в мировой жизни более заметны, чем даже следы гнева. Тем не менее, если на время забыть об этом недостатке, то образ злостраждущего мира, нарисованный Шопенгауэром, производит вообще весьма сильное и подавляющее впечатление. И основание для той популярности, какою пользовался и еще теперь пользуется Шопенгауэр, следует искать, собственно, не в его философских выводах, и не в его пантеистическом мировоззрении, которое не заключает в себе ничего нового и оригинального, в сравнении с философским мировоззрением элеатов, Спинозы, Фихте, Шеллинга, Гегеля и т. п., а именно в его глубоком и смелом раскрытии мрачной стороны мировой жизни.
Гартман, вернейший и последовательнейший из учеников Шопенгауэра, вполне сходится со своим учителем в указании на то зло, скорби, страдания и бедствия, которыми переполнена жизнь этого мира. В своем главном сочинении Philosophie des Unbewussten [ «Философия бессознательного»] (Berlin, 1872) всю двенадцатую главу (стр. 629–737) он посвящает изображению теневой стороны мира и решению вопроса: что в этом мире заслуживает предпочтения – бытие или небытие? Само собой понятно, что он отдает предпочтение небытию. При этом как на своих предшественников и единомышленников он указывает на Платона, Канта, Фихте, Шеллинга и Шопенгауэра.
Материалисты, и в особенности последователи Дарвина – эволюционисты, хотя и признают существующее в мире зло явлением совершенно естественным и потому даже необходимым, но также не скупятся на мрачные краски для изображения борьбы и враждебности, безгранично будто бы проявляющихся в мировой жизни.
Как увидим позже, нельзя согласиться ни с Шопенгауэром, ни с Гартманом, ни с новейшими материалистами относительно того, в чем следует полагать сущность зла и из какого источника оно вытекает; нельзя согласиться с их выводами и заключениями; но указываемый ими факт существования в мире зла в тех ужасающих размерах, которые определить они затрудняются, во всяком случае заслуживает полного внимания и серьезного обсуждения. Между прочим, мы находим совершенно верным замечание, сделанное Шопенгауэром, – что зло мало заметное в неорганическом и растительном царстве, с большею силою проявляется в царстве животных, а во всей своей, так сказать, наготе обнаруживается в жизни человечества. Наконец, не без основания поступает Шопенгауэр и в том случае, когда проявление зла ставит в тесную внутреннюю связь с волей и самосознанием человека. Для нас эти пожелания весьма важны и нам придется к ним возвратиться еще раз.
Чтобы правильно судить о сущности зла и верно указать источник его происхождения, нам необходимо предварительно точно установить само понятие о зле. Итак, что такое зло? Нельзя не отметить того бросающегося в глаза обстоятельства, что редкие из философствующих мыслителей решаются дать прямой и точный ответ на этот вопрос. В большинстве рассуждений, предметом которых служит господствующее в мире зло, ответ это обыкновенно обходится полным молчанием, как нечто будто бы само собой совершенно понятное и не требующее никаких разъяснений. Но в действительности дело это находится вовсе не в таком положении и вовсе не так маловажно, как кажется на первый взгляд, потому что от такого или иного понятия о зле непосредственно зависит решение вопроса о сущности и происхождении зла, его характере и значении, в общем, течение мировой жизни.
Из рассуждений различных мыслителей о зле с несомненностью вытекает, что в большинстве случаев они (мыслители) разумеют под злом явления далеко не одного и того же порядка, а потому естественно часто расходятся между собою и в своих заключениях о сущности и происхождении этих явлений. Впрочем, есть один пункт, относительно которого достижимо, по-видимому, некоторое соглашение. За исключением пантеистов, материалистов и атеистов почти все философствующие мыслители более или менее склоняются к тому, что зло вообще есть нечто противоположное добру, отрицание его; а потому и понятие о зле они ставят обыкновенно в непосредственную зависимость от понятия о добре. Но тут встречается новое затруднение: что нужно разуметь под добром? В определении понятия добра мыслители так же далеко расходятся между собой, как и в определении зла. С уверенностью можно, однако же, сказать, большинство философствующих мыслителей старается определить добро как нечто такое, что необходимо должно быть или что входит в понятие порядка, а зло – как то, чего не должно быть, но что в действительности существует и что мыслится как нарушение порядка. Такого определения, между прочим, придерживаются и Гегель, и известный христианский апологет – Эрнст Навиль. И с этим определением, конечно, можно было бы согласиться, так как оно, без сомнения, стоит выше других. Но здесь опять рождается вопрос: чем мы должны руководствоваться при определении того, что должно быть и чему не следовало быть? Очевидно, нужен твердый и для всех одинаково обязательный критерий для отличия добра и зла; а его-то, к сожалению, и нет. В отыскании такого критерия теперь состоит новое затруднение, и при том – затруднение такого рода, которое устранить нелегко.
Противопоставление добра и зла как вариант противопоставления должного и сущего – это тезис посткантовской философии, где должное понимается в связи с определенной картиной истинного прогресса в противоположность ложному прогрессу. Для старой метафизики и этики, например для Аристотеля, добро относится и к сущему (природа в целом порождает правильные организмы, за исключением редких мутаций) и к должному (нравственный человек стремится к тому, чтобы все добрые поступки достигали своих добрых целей). Для Аристотеля добро столь же сущее, сколь и должное, а зло столь же не-сущее, сколь и не-должное.
Дело в том, что представители каждого философского мировоззрения предлагают свой собственный критерий, с помощью которого будто бы только и возможно установить решительную границу между добром и злом. Но все эти критерии или находятся в непримиримом противоречии между собою, или не могут быть приняты нами потому, что вместо обещаемого различия приводят только к смешению нравственных начал, к сбивчивости представления о добре и зле. Исследователю, не принадлежащему ни к какому школьно-философскому направлению, грозит опасность запутаться в лабиринте философских гипотез и предложений. Во всяком случае, что ему неизбежно предстоит сделать, это – подвергнув беспристрастной и всесторонней критической оценке достоинство всех предлагаемых критериев, выбрать из них один, так как естественно предполагать, что из всех указываемых критериев истинным может быть признан только один.
Останавливаем внимание читателей лишь на важнейших и наиболее популярных критериях, которыми руководствуются философствующие мыслители при определении добра и зла.
Эвдемонисты, да и некоторые другие мыслители как древнего, так и нашего времени, при определении добра и зла советуют, например, руководствоваться идеею счастья и удовольствия. Добро, говорят они, есть то, что составляет счастье и удовольствие для людей, зло – то, что составляет наше несчастие, а также и все наши злые (?) наклонности. Так как человеческой природе свойственно стремление к счастью и удовольствию, то, по их мнению, должно быть (т. е. есть добро) только то, что составляет счастье людей; что противодействует ему, тому не следовало быть, то есть зло. Этот критерий, конечно, можно было бы принять; но к сожалению, самое понятие о счастии и несчастии у людей слишком разнообразно, изменчиво, случайно и противоречиво. Так например, одни полагают счастье в славе, богатстве, высоком общественном положении, чувственных удовольствиях; другие с большим основанием считают все эти мнимые блага, напротив, источником или, по крайней мере, почвою, на которой развивается зло, несчастие и пороки; наконец третьи прямо утверждают, как несомненное, что счастья на земле вовсе даже и нет, что здесь только одно горе, страдания, скорби, и что этот мир есть самый худший из возможных миров, в котором не стоит даже и жить (пессимисты). Кому же верить и кто прав? Ясно, что указываемый эвдемонистами критерий слишком субъективен и неустойчив.
Эвдемонизм как учение о довольстве вовсе не настаивал на том, что субъективное представление о счастье может стать должным. Напротив, как и вся античная философия, эвдемонизм полагал довольство в социальной самореализации: кто может действовать так, что и он собой доволен, и другие им довольны, тот и счастлив. Ненадежность здесь только в том, что не учитывается возможная злонамеренность других, как и твоя неосознанная злонамеренность, недовольство добром.
Пантеисты, уверенные, что весь мир есть только необходимое развитие абсолюта – всеединого (у элеатов), абсолютной субстанции (у Спинозы), Я (у Фихте), абсолютной идеи (у Гегеля), абсолютной воли (у Шопенгауэра) или бессознательного (у Гартмана), – прямо утверждают, что в мире должно быть все, что есть, так как все существует по необходимости, а, следовательно, должно быть и то, что мы называем злом. Здесь, очевидно, зло совершенно отождествляется с добром, а потому не может быть указан и критерий для того, чтобы отличить добро и зло, так как все существующее необходимо должно быть, т. е. все есть добро, если под добром следует разуметь то, что должно быть.
Материалисты и позитивисты в этом случае приходят к тому же самому результату, какой получился и у пантеистов. Так Бюхнер, например, высказывает следующие положения: «Идея добра не имеет абсолютного значения». «Неопределяемость понятия добра – дело известное; заповеди Божии созданы (gemacht) самими теологами». «Так как нет свободы воли, нет ответственности, то грех и виновность – чепуха (Unding)… Общие моральные понятия до такой степени относительны, противоречивы между собой, зависимы от внешних обстоятельств и индивидуальных воззрений, что должно оказаться совершенно невозможным приобрести какое-либо абсолютное определение добра». «Не вследствие греха, а по необходимости жизнь человеческого рода есть bellum omnium contra omnes [война всех против всех], всеобщая война, в которой каждый всеми возможными способами старается победить, даже уничтожить другого. Каждый делает, что, по его мнению, можно делать безнаказанно, обманывает, эксплуатирует другого, в убеждении, что никто лучше не поступит и с ним. И кто вообще не идет эти путем, того по справедливости считают дураком, не могущим идти им». «Преступления – суть естественные явления, вытекающие необходимо из неизменных причин, как круги [вращение] земного шара». Спрашивается: какой критерий могут указать материалисты для определения добра и зла и для точного их разграничения между собой?
У деистов и оптимистов также напрасно стали бы мы искать верного и для всех одинаково обязательного критерия, руководясь котором мы, без опасения каких-либо возражений, могли бы сказать: «вот это – добро, а это – зло!» Собственно говоря, и деисты и оптимисты так же отрицают существующее в мире зло, как отрицают его все материалисты, пантеисты и позитивисты. Впадая в крайность, противоположную пессимизму, оптимисты утверждают, что этот мир есть наилучший из всех возможных миров, и если пессимисты видят в мире только господство одного зла, то оптимисты, наоборот, хотели бы видеть в нем только одно добро. К тому же заключению приходят и деисты, предполагая, что настоящий мир так прекрасно устроен во всех отношениях, что исключается всякая возможность сверхъестественного «вмешательства» Божества в течение его жизни, – что ему с самого начала даны такие совершенные и неизменные законы, по которым его жизнь может развиваться совершенно самостоятельно, без всяких уклонений и нарушений раз данного порядка. Как на критерий для разграничения областей добра и зла, хотя последнего, в сущности, будто бы и нет, и деисты и оптимисты одинаково указывают на принцип целесообразности. Что целесообразно, то – добро и порядок, что – нецелесообразно, то – зло и беспорядок.
Но несправедливо смешивать добро с действием целесообразным, а зло считать за явление нецелесообразное. И зло может достигать (и достигает) своей цели, а потому и оно может быть в своем роде явлением целесообразным, не становясь, однако же, через это добром. Злодеяния (например, подлоги, мошенничества, кражи и т. д.) для своего осуществления нередко требуют гораздо большего ума и сообразительности, чем даже совершение какого-либо доброго дела и нравственного подвига. Целесообразность предполагает необходимое участие ума, всякое же доброе и злое дело должно быть приписываемо, прежде всего, влиянию доброй или злой воли. А так как целесообразность свидетельствует только о мудрости субъекта, производящего целесообразные действия, безразлично относясь к его воле, то с этой точки зрения всякое зло легко может быть смешано с добром или обращено в него. Здесь именно нужно искать основания и для того всем известного иезуитского положения, по которому цель оправдывает средства, и которое способно извратить все истинно нравственные понятия. И действительно, у деистов и оптимистов зло исчезает, превращаясь или в развивающееся добро или в простое средство для достижения и более ясного уразумения добра. Но как в том, так и в другом случае одинаково допускается полное смешение нравственных понятий, безразличие добра и зла.
Целесообразность в новой европейской науке обычно понимается не как соответствие средств цели (в том числе злой), а как соответствие каждого очередного действия при достижении цели самой природе цели. Поэтому злодей действует нецелесообразно: он совершает злой поступок, но при этом маскирует его как добрый. Целесообразное действие – это действие без масок, маскировки и лжи.
Уже у Лейбница в его Теодицее мы встречаем, например, такие мысли: «Как меньшее зло есть в каждом роде добро, так и меньшее добро есть в некотором роде зло, если оно полагает препятствие для появления большего добра (значит, добро не всегда остается добром, но может переходить во зло и наоборот). Часто зло служит причиною (!) добра, которое совершенно не произошло бы без этого зла. Часто даже двойное зло дает бытие (!) одному великому добру: Et si fata volunt, bina venena juvant (и если судьбе угодно, то помогает и двойной яд)… Иногда командующий армией допускает счастливую ошибку, которая доставляет ему победу в большом сражении». «Немножко кислоты, остроты, и горечи, – говорит Лейбниц далее, – часто нравятся нам больше сахара; тени усиливают цвета, и даже (музыкальное) разногласие, появляющееся в должном месте, рельефнее представляет гармонию. Мы хотим быть приведенными в трепет канатными плясунами, вот-вот готовыми упасть; и нам нравятся трагедии, почти заставляющие нас плакать. Наслаждались ли бы мы здоровьем и достаточно ли воздавали бы за него благодарение Богу, если бы никогда не испытывали болезни? И не надобно ли, большею частью, немножко скорби для более ясного ощущения блага, т. е. для создания его более великим?» Странное рассуждение! Зло оказывается явлением не только необходимым, но благотворным и полезным. «Зло дает бытие великому добру». «Зло служит причиною добра»! Но причина должна заключать в себе более силы, чем сколько она сообщает своему действию, или следствию; ясно, что зло уже поставляется выше добра. Какой же здесь может быть дан критерий для отличия добра от зла? Но продолжая развивать последовательно положения Лейбница далее, мы можем прийти к самым ужасным выводам. Терзание невинных людей дикими зверями доставляло звероподобным язычникам удовольствие; следовательно, терзание невинных людей дикими зверями ради удовольствия, подобно плясанию на канате, есть добро? Чтобы достичь победы, полководец по отношению к врагам нередко употребляет обман, имеет дело с лазутчиками, старается как можно более истребить врагов; следовательно, ложь, обман и убийства когда-либо могут стать добром?