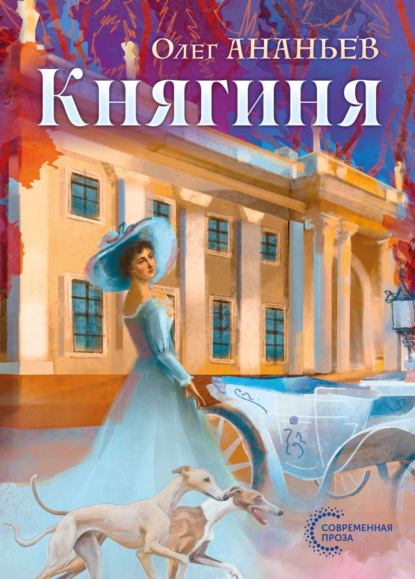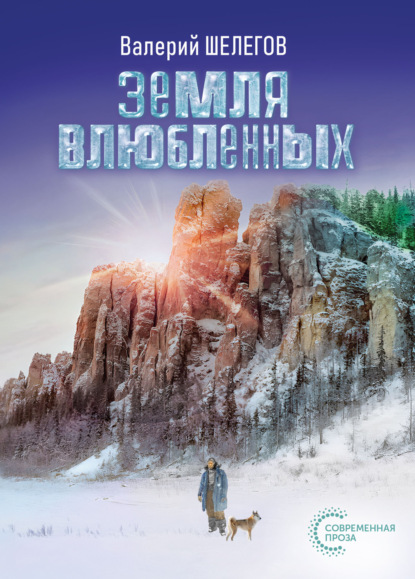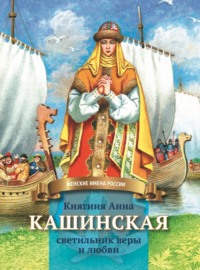Полная версия
Безмолвие тишины
Лёшка был совершенно безучастен к её хлопотам: он в сердцах вдруг пихнул ногой дорожную сумку, брошенную им на пол, стянул с головы ухарский берет небесного цвета, уткнулся в него лицом и – неожиданно даже для себя самого – по-детски безутешно и открыто заплакал.
Женщина наконец сумела справиться с замком, распахнула шумно настежь дверь и перемахнула за порог. Слышно стало, как в тёмных сенцах она обо что-то запнулась, чуть не упав, ойкнула непроизвольно и скрылась в хате.
Она тихо-тихо, замерев нахохлившейся, вспугнутой птицей, сидела на табуретке в передней, когда Лёшка спустя время осторожно переступил порог. Вошёл и сразу же, минуя переднюю и кухоньку, шагнул в горницу, где от плотно зашторенных окон было тесно и сумеречно. Заметно уменьшали пространство родного жилища и чёрные полотнища, свисавшие траурными шлейфами и скрывавшие от глаз высокое зеркало старенького трюмо, рамки с фотографиями за стеклом, висевшие в межоконных простенках, короб телевизора в углу на тумбочке.
На столе – увеличенное мамино фото, с которого она приветливо и прямо улыбалась сыну. Сбоку, прислонённая к маминому плечу, – последняя его армейская цветная фотокарточка: и он тоже всем прямо и приветливо улыбался.
Перед обоими фото стояло белое блюдечко с хрустальной рюмочкой на тоненькой ножке. В рюмочку была налита до середины водка, а поверх лежал высохший ломтик чёрного хлеба. Около рюмочки – тонкий огарыш жёлтой восковой свечи.
Рядом Лёшка положил алое, в прозрачных прожилках яблоко, которое, как оказалось, до сих пор сжимал в руке, – и упал на колени перед столом. Солдат уже не плакал; он просто молча и потерянно смотрел на маму, так ласково и радостно улыбавшуюся ему.
Глухую обморочную тишину соседка, беззвучно прорыдавшая всё это время, наконец рискнула нарушить осторожным предложением:
– Може, до меня пойдём. Поешь. Голодный, поди, с дороги-то…
Лёшка очнулся. Поднялся с колен. Присел на краешек дивана и отстранённо пробурчал:
– Не хочу, – уставился в пол – больше он не знал, куда и зачем смотреть.
В сенцах с шумом хлопнула дальняя дверь, следом широко распахнулась дверь в хату: на пороге появилась раскрасневшаяся, с большой гружёной сумкой в руках тётя Оля. Заглянула в горницу:
– В темноте-то чё, как филины, сидите? Хушь бы свет зажгли, – и щёлкнула выключателем на кухне. По-хозяйски засуетилась. – Сичас я табя, сыночка, покормлю.
Валентина поспешила оправдаться:
– Отказыватся, предлагала, к сабе звала…
Тётя Оля не слышала или только делала вид, что не слышит. Она сновала по кухне, хлопотала и вскоре позвала к обильно накрытому столу:
– Идём-идём, Лёшенька! Поисть надоть! С дальней дороги как-никак. Маму вот спомянем, да и за твоё здоровье по чуть-чуть пригубим: радость-то кака – живой! Мы ж табя, сыночка, усем миром успели схоронить…
– Она усё жалилась, что сны плохие видит, – помянув за столом усопшую, соседка начала издалека. – Идём с ей на ферму, бывалоча, утром ранёшенько, а она усё токо сны и вспоминат. То одно чё-то увидит, то чё-то друго. Я ей говорила, чтоб значенья-то им не придавала. «Забудь, – говорю, – усё, чё видела! Проснулась, голову почесала и усё забыла».
– Это уж известно: сон споминать – токо беду накликать, – согласилась с ней тётя Оля.
– А тута как-то, – Валентина продолжила, – у ей сердце схватило: с лица спала, уся бледная стоит. Утрешню дойку-то довела. На вечор Люська-бригадирка ей замену нашла. После дойки я к ей спроведать забежала. Она как раз на диване лежала. Телевизер – будь он проклят! – бросила она в сердцах, – включённый говорит. Как раз стали известья показывать. А она с какого-то моменту, Лёшенька, ни однех известьев, особенно каки с Чечни, старалась не пропустить. И усё сокрушалась, чё, мол, наших бедных солдатиков усё по телевизеру стыдят да охаивают. Чуяла ли, чё? – вздохнула. – И вдруг на весь экран ты, Лёшенька! Лицо онемевше, как у мяртвеца, каменно… Глаза запавшие закрыты плотно. Увесь у чёрной щетине и у кровищи… Тя на носилках у машину пихают, а рука-то болтатся, как плеть. Я на её глянула: може, думаю, не видит, може, думаю, не признала, може, думаю, это я обшиблась. А она впилась глазами в экран: сама – полотно белое. И как закричит: «Лёшенька! Сыночек мой!» С диванчика-то подхватилась, руки к телевизеру тянет… Встала – и шага ить сделать не успела, тут и рухнула на пол. Я – тык-мык, ишшо и не соображу до конца, чё к чему. Тут, слава Богу, Елена Петровна бегит, тоже табя увидала. Следом Митрич приковылял. Сгрудились мы над ей. Помочь ничем не могём. А чё и сделашь, коли сердце-то вмиг разорвалось? Уся деревня так и решила, что видали табя убитым, – и, не сумев сдержать горьких слёз, женщина захлебнулась, умолкла.
– Токо вот отпеть табя заочно уместе с матерью батюшка отказался, – тётя Оля вытерла и свои слёзы. – А я, грешная, ишшо так и настаивала! А когда твоё письмо пришло, прочитали яво, повертели-повертели: ни даты, никаких намёков, штемпель псковской, – так и решили, что писано давно, что гдей-то на почте застряло. Быват, вона и из Курску письмо-то месяцы идёт.
Предчувствие лихой беды нарастало лавинообразно и за последние полгода неминуемо стало постоянным её спутником. В своей неизбежной неотвратимости беда надвигалась злой волной-цунами, грозила сплющить чёрной массой, подпирала безысходностью и страхом.
Раз за разом мать перечитывала письма сына, невольно сличая знакомые тексты. Обнаруженные неожиданно однообразие и похожесть фраз, а то и явное противоречие в повторных описаниях событий, да и замеченная путаница в именах ещё более взволновали и насторожили.
Она вновь и вновь механически пересматривала давно вызубренные до запятой, исписанные неровным почерком листочки и однажды всё-таки сумела высмотреть незамеченный ею раньше слабый оттиск пальца на одном из последних писем. Мать напряжённо, до острой рези в глазах, всматривалась в тот обнаруженный отпечаток, пытаясь в еле уловимом рисунке угадать нечто до боли знакомое – сыновье… Она, по-собачьи чутко втягивая носом воздух, обнюхала то пятнышко, и ей даже почудилось, что ясно сумела уловить горький запах гари и дыма, отличить и тревожный запах палёного, вычленить парной запах сырой крови…
Всё чаще и чаще, при первой же возможности, мать стала ездить в церковь, куда раньше и любопытства ради редко захаживала. Она терпеливо и стойко выстаивала долгие службы, мало что понимая до конца и разумея по смыслу; и только одна-единственная фраза, свербящая и пульсирующая, произносилась ею и вслух, и мысленно:
– Господи! Господи! Не остави моего сыночка!.. Моего Лёшеньку!.. Верни его домой, верни целого и невредимого…
Мать часто просыпалась среди ночи и подолгу лежала с открытыми глазами, впериваясь в чернильную темноту и вслушиваясь усиленно в запредельные звуки, но ни увидеть, ни услышать того, что могло бы хоть как-то утешить страдающее сердце и пригасить страхи-тревоги, не удавалось. И тогда она, не выдержав внутреннего напряжения, падала ниц перед иконами, привычно висевшими издавна в переднем углу, порывисто крестилась и, не сдерживая обильных, перехватывающих дыхание слёз, молила:
– Господи! Чует моё сердце – тучей чёрной висит над моим мальчиком беда! Господи! Господи! Отведи от него все горькие беды-напасти! Меня накажи, меня! А его, Господи, спаси и помилуй! Сохрани моего сыночка, моего Лёшеньку. Господи! Господи! Не отступи!..
Обессилевшая и опустошённая от слёз и причитаний, она падала пластом и долго ещё лежала на полу немо и отрешённо.
С каждым новым днём мать всё напряжённее и напряжённее, подавляя в себе близкий мистический страх, всматривалась в лица солдат, замелькавших внезапно во множестве на экране, да и само тревожное, забытое, казалось, на века, слово «война» обрело вдруг свою плоть и реальность. «Какая война? Где? Почему?» Многого мать не могла по простоте своей взять в толк, ничего или почти ничего не понимая из происходящего, но чуткое её сердце разрывалось от жалости и несправедливости к растерянным и недоумевающим мальчикам.
Во всём этом явно таилась какая-то вселенская ложь, однако до разгадывания ли было политических шарад и загадок, когда с замиранием сердца смотрелись новостные программы, а однажды она точно узнала в одном из усталых, отмеченных войной лиц и до боли знакомое. Мелькнул стремительно её мальчик в череде чужих лиц и, словно испугавшись, что обнаружился, поспешно отвернулся. Всё в ней похолодело до озноба и, вздрогнув, напряглось. Камера вновь старательно выхватила лицо примеченного солдатика и показала крупным планом, а мать облегчённо выдохнула и обрадовалась. Но тот чужой сын с худенькой куриной шейкой запомнился и ещё долго стоял перед глазами.
Тревога, столь вероломно угнездившаяся в тесной груди, не оставляла даже тогда, когда от сына приходило очередное письмо – спокойное, ровное. Мать всё равно не обретала временного покоя.
И всё чаще и чаще снились ей сны – тревожные, изнурительные и путанные. А потом был тот последний сон, разметавший все прежние.
Только-только прилегла, не успела и глаз сомкнуть, обморочно провалилась в чёрную бездну и тут же увидела кровавую реку, весенним половодьем заполонившую собой всё пространство зловещего сна. И покачивалось на слабой тягучей волне чёрной лодочкой обездвиженное тело человека, облик которого ей ещё не был явлен.
Сквозь толщу сна ясно прорывалась учащённая дробь перепуганного насмерть сердца. И она попыталась вырваться из тяжёлых липких пут, но сделать это ей не удалось.
И вот новая попытка: взмах рукой, взмах другой. И, кажется, выберется на поверхность, сбросит с себя глубокий морок, однако вязкий обморочный сон, как в чёрную воронку глухого омута, всё затягивал и затягивал.
Веки не открыть – придавило чугунным грузом, а в области пупка сконцентрировалась тупая пульсирующая боль, словно из неё тянули-вытягивали жилы, впрочем, тут же и обнаружилось, что жилы тянули наяву. Она уже отчётливо видела, как от чёрной лодочки, оказавшейся телом её мальчика, белым жгутом тянулась к ней пуповина, натянутая как тетива. Мать очень остро прочувствовала эту реальную связь между ней и сыном и явно испытывала теперь напряжение натянутого вибрирующего шнура, а белёсая тетива вдруг не выдержала натяжения – лопнула с пронзительным, перевернувшим душу скрежетом-свистом: лодочка быстро-быстро устремилась по кровавой стремнине вниз.
И мать проснулась в холодном поту. Её трясло, как в ознобе, и перехватывало дыхание. Невольно тронула мелко дрожавшей рукой живот: в области пупка горело открытой раной.
И весь долгий день острая боль не оставляла её, а к вечеру уже и весь живот казался сплошной пылающей раной; и такой же болезненно-мучительной была распиравшая грудную клетку тоскливая тревога.
И когда мать услыхала пробившийся до чуткого слуха зовущий вскрик:
– Мама! – она моментально устремилась на тот, давно ожидаемый, зов.
Душе в груди, как в узкой клети, стало невыносимо тесно и душно, и она стремительно рванула на свободу, а отяжелевшее, оставленное тело-оболочка само по себе рухнуло на пол.
Душа легко вспорхнула белой голубицей и, вылетев искристой молнией через настежь отворённое окно, навсегда покинула старое жилище.
…А он плыл в белоснежных одеждах, вольно распластавшись полегчавшим телом на воде, покачиваясь на слабой волне, которая по тихой-тихой стремнине медленно несла его в неведомое. Он видел: над ним – синь бесконечная, беспредельная…
Внезапно плавное течение резко прекратилось, река бурным потоком обрушилась вниз, завертела, втягивая в спираль быстрой воронки, безмятежного пловца и понесла, как щепу, в чёрную глубь, в пугающую бездну.
И самое последнее, что он успел зафиксировать, – это холодный стеклянный объектив телекамеры, змеёй ввинчиваясь немигающим зелёным зрачком, тянулся к нему всё всасывающим равнодушным хоботком.
– Мама! – он вздрогнул от своего внезапного крика, а она, отреагировав моментально, уже отозвалась на его зов:
– Лёшенька, сынок! Слышу-слышу! Я здесь, рядом.
И мать склонилась над ним, отогнала внезапный страх, умирила подпирающую нутро боль. Она смотрела на него ласково-ласково и дохнула легко и свежо, словно ополоснула живительной влагой пылающее лицо.
Открыл глаза: над ним низко склонилась голова, и голосом чутким, вкрадчивым осторожно спросили:
– Лёша, ты слышишь меня? Если слышишь, моргни разок глазами.
И он выполнил, как его просили: захлопнул и открыл веки, а сам очень внимательно следил за белой голубкой, вспорхнувшей на спинку его кровати.
Птица сидела сторожко, не реагируя на суетящихся над ним людей.
Назавтра были сороковины.
С утра, как распорядилась тётя Оля, они вдвоём отправились в Фатеж.
– В церкви на панихидке постоим, – объяснила она крестнику.
В будние дни служб в храме практически не бывало, и Лёшка издалека отметил, что на двустворчатой церковной двери, выходившей прямо на улицу, железным калачом болтался тяжёлый висячий замок. Он хотел было высказать своё недоумение вслух, но не стал. Тётка вышагивала рядом споро и уверенно.
Через калитку в кирпичном заборе они вошли во двор, где, как оказалось, их уже ждали. И они вчетвером – священник, дьяк, тётя Оля и Лёшка – через боковую дверь прошли в тёмный храм, где было пусто и глухо.
Спустя минуту-другую следом вошла женщина. Она быстро зажгла на каноне свечи. Протянула и им по высокой тонкой свече. С зажжёнными фитильками в руках замерли в ожидании.
Вскоре в облачении к канону подошёл священник. Дьячка Лёшка узнал сразу же – крупный, зычногласый, с постоянно всклокоченной рыжей бородой, тот, казалось, если и не являл собой саму вечность, то, во всяком случае, давным-давно воспринимался неотъемлемой частью местного храма. А вот молодой священник ему совершенно был незнаком, лишь самым странным образом напомнил полкового батюшку, которого он наблюдал в Чечне среди казаков.
Священник что-то негромко спросил у тёти Оли, и та, захлебнувшись внезапно обильными слезами, зачастила:
– Это он и есть – наш Лёшенька, наш солдати-ик. Это ж я яво, грешная, отпеть всё уговаривала. Увечор вот приехал.
– А сейчас-то чего плачешь? Радоваться надо, что живой вернулся, – он попытался успокоить плачущую навзрыд женщину.
– Так-то оно так, – согласилась было тётя Оля, – да шибко ж он изранетый весь. Молоденько-ой, а на ём же и места живого не-ет, кровиночка жалкая. А тута ишо и мамки не-ет, – и она вновь задохнулась слезами.
– Ну не плачь, не плачь, – видно было, что батюшка и сам смущён, но держался и растерянности своей старался не показать. – Слава Богу, что живой! Раз выжил, значит, жить будет долго! – и, пристально посмотрев в упор на Зырянова, спросил у него: – Не так ли, солдат?
И Лёшка, окончательно ошалевший от происходящего, поспешил согласно кивнуть отуманенной головой.
С дымящимся кадилом в руке подошёл дьяк, и панихида началась.
Вернувшись из Фатежа, они прямиком направились на сельское кладбище. В недоумении и растерянности стоял Зырянов возле могилы матери с простым деревянным крестом в изножье. Он попытался вчитаться в начертанные на кресте слова и цифры дат, однако, совершенно не воспринимая смысла написанного, ясно испытывал только одно – в нём всё сопротивлялось, отказывалось принимать реальность происходящего. А свежий холмик, ощетинившийся мягким ёршиком густой зелени, обнадёживающе увиделся вдруг непрополотой огородной грядкой, бесхозно заросшей сорной травой: жёлтую кудрявую головку вытянула сурепка, сочная осот-трава высунулась нагло из чёрной земли, кустиком топорщилась мелколистная жгучая крапивка, в шершавых мохнушках ширица, бледно-серая лебеда опять же…
Склонился, как в детстве, над заросшей грядкой – дёрнул сурепку, осот на обрыве сверкнул молочным ободком, ожгла крапивка пальцы.
– Нехай-нехай! Оставь! – тётя Оля одёрнула, вернула в действительность. – Это я по осени усё повытягиваю. Люся из Курску обешшала семян привезть. Травка така-то специальна есть. Её и посеем, и будет у нас на могилочке порядок. Усё будет ровненько, как атласным покрывальцем накрытое. И цветочков посадим. Усё сделам, усё… Я сестрёнку без призору не оставлю, – а голос влажный, хлюпающий.
Она поменяла выгоревший венок из бумажных вощёных цветов на новый. Воткнула свечу в землю у креста. Зажгла её и всё что-то говорила и говорила ему, а он давно не слышал её.
Точно так же вне его сознания и осмысления прошёл и долгий вечер, когда в доме собрались люди. Они сидели за накрытым обильно столом. И он сидел с ними. Что-то даже отвечал, когда спрашивали. И хотя все они – знакомые и близкие – поначалу старались быть с ним осторожны и внимательны, вспоминая его мать и всё пытаясь рассказать о ней нечто своё, особенное, под конец вдруг начинали перебивать друг дружку, повторяться, спорить, шумно уточнять мелкие детали.
А он слушал, ничего не слыша. Смотрел, ничего не видя.
Время ли остановило свой стремительный бег, окружающий ли его мир остекленел – он, как в кокон, замкнулся в себе и несколько дней кряду пролежал пластом в пустой хате.
Тихой, осторожной тенью возникала около него крёстная: что-то робко пыталась сказать. Он, однако, ни на слова, ни на слёзы не отзывался, пока однажды вдруг не спросил про сегодняшнее число. И тётя Оля, обрадовавшись тому, что он наконец подал голос, назвав дату, тут же поспешила предложить:
– Може, Лёшенька, чево поешь?
– Мне ж в военкомат надо! – подхватился, засобирался он.
– Так сразу и поедешь ли, чё? – тётя Оля вновь затянула просительно: – Може, хушь поешь чуток?
– Может, и поем, – согласился.
В военкомат он приехал под самое закрытие. Дежурный, приняв отпускные документы, с ходу набросился:
– Ты где это до сих пор пропадал? Тебе, олух царя небесного, когда надо было явиться?
Возможно, дежурный и ещё бы продолжал радостно распекать и шуметь, но в комнату вошёл старый прапорщик. Он взял Лёшкины документы, бегло просмотрел. Вновь положил на стол. Затем очень внимательно, в упор вгляделся в Зырянова и, не говоря ни слова, быстро вышел.
Через минуту на столе дежурного затрещал древний телефон. Тот схватил чёрную тяжёлую трубку и, автоматически ответив по форме, продолжил скороговоркой:
– Есть отметить задним числом! Слушаюсь, товарищ полковник! – и, подняв на Лёшку выразительные глаза, вполне миролюбиво произнёс: – Иди к военкому, – и подсказал: – Вон в ту дверь.
Лёшка потянул на себя обшарпанную массивную дверь. Спросил:
– Разрешите войти?
– Входи-входи, солдат! – военком стоял у открытого настежь зарешечённого окна.
Зырянов вошёл и замер у порога.
Военком медленно докурил сигарету и, выстрелив окурок на улицу, вдруг спросил:
– Куда ранен-то?
– В живот, – от неожиданности вопроса Лёшка ответил почти шёпотом.
– Не болит?
– Да нет, – и снова осторожным шепотком: – Не болит.
– Иди. Через месяц приедешь. А там, думаю, можно будет тебя и на комиссование отправить. Поживи пока у мамки, порадуй.
У Лёшки невольно дёрнулась щека, а прапорщик, который всё время стоял рядом, поспешил что-то прошептать военкому. Зырянов догадался что.
Военком закурил новую сигарету: пальцы его мелко дрожали. И долго-долго смотрел в окно.
– Смотри, если болеть будет – в госпиталь отправим. Полежишь, отдохнёшь, – оглянулся на Лёшку, спросил в упор: – Хочешь?
– Да нет, не болит же, – ответил всё тем же шепотком.
Через затяжную паузу военком, глубоко вздохнув, продолжил расспросы:
– Из родни в деревне есть кто?
– Есть, тётя Оля.
– Жить-то пока есть на что?
– Пока есть.
– Свободен, иди… – Лёшка уже выходил за порог, когда полковник бросил вдогонку: – Можешь и попозже приехать, чем через месяц. Как оклемаешься окончательно, так и приезжай.
В военкомат Зырянов приехал через три дня. Прибыл рано утром.
– Ты чего? – увидев его ещё во дворе, участливо спросил военком. – Случилось что?
– Да нет, ничего не случилось. Поеду я.
– Куда поедешь?
– В часть поеду.
– Туда, что ли?! – и полковник многозначительным кивком головы указал в южную сторону.
– Пока в Псков, а потом, может, и туда, ребята там…
По возвращении из военкомата Лёшка сразу зашёл в Заречье. Его приходу тётя Оля несказанно обрадовалась, но ещё большей была её радость, когда он с неподдельным аппетитом умял всё, что она подкладывала и подкладывала ему в тарелку.
От тётки Лёшка пошёл на кладбище. Пошёл один. Без тумана в голове. Словно кто вёл его за руку. На погосте было тихо, безветренно, умиротворённо, и у него на душе тоже было ровно и покойно.
Присел на корточки у могилки, формой своей, гробиком, уже не напоминавшей огородной грядки. Мысленно ли о чём говорил с матерью, вслух ли что произнёс невольно, он так и не зафиксировал, но ощущение, что ясно слышал ласковый мамин голос, его не покидало и много позже.
А тогда он совершенно не испугался, а долго сидел, смиренно и тихо, приспособив под сиденье какой-то чурбачок у скорбного холмика, оглаживая рукой тёплую, прогретую за день солнцем поверхность.
И лишь когда потянуло вечерней осенней прохладой и стремительно густо посерело вокруг, он направился к дому.
Дом был пуст. За эти дни хата так и не прониклась жилым духом. Неприкаянной тенью одиноко прожил Лёшка весь недолгий срок; такой же зыбкой тенью провёл он и тот последний вечер, понимая, что прощается, не зная только одного – надолго ли?
Ощущение времени и действительности вернулось к нему вместе с укоренившимся чувством спокойствия: решение было принято, – и всё встало на свои места.
За две последние недели, сам того не осознавая до конца, Лёшка окончательно повзрослел и возмужал.
Он понимал, что дни проходят за днями и вот-вот истает последнее остаточное тепло, что полетят скоро из-за степи волна за волной холодные порывистые ветра; в ледяной серпик превратится пышнотелая дева-луна; ещё более холодными и равнодушными станут далёкие звёзды, затаившиеся в дымных разливах тучных облаков. И беспомощным, голым – сад, посаженный дедом и так трепетно оберегаемый матерью.
Защемило сердце. Но он не позволил себе расслабиться – решение принято.
Рано-рано утром Зырянов вышел за порог. Продолжала ещё зорко высматривать округу утренняя звезда. Задержался в дверях, но только на самый-самый краткий миг, и, взяв с вечера приготовленные доски, обошёл хату и крест-накрест заколотил все окна. Он так решил.
На крыльце своего дома появился Ашот и зорко стал наблюдать за действиями соседа. На стук выскочила Валентина. Подбежала:
– Чё это ты, Лёш?! Никак уезжашь?!
Промолчал. Сглотнул неожиданную одинокую слезу: шершавым катышем прокатилась она по сухой гортани, а соседка, закусив кончик головного платка, всхлипнула и убежала.
В хату он больше не вошёл. Дорожная сумка в готовности лежала у крыльца.
Дверь замкнул на висячий замок в два оборота. Следом – крест-накрест две доски. Вбил последний гвоздь и, не оглядываясь, зашагал по улице. Не выдержал – оглянулся. Ашот всё стоял на крыльце своего дома и продолжал смотреть ему вслед. Рядом были его сыновья.
Калитка в Лёшкином саду была широко распахнута – дозревала антоновка.
У правления Лёшка свернул к речке, где по кладкам перебрался на другой берег и прямиком через луг добрался до Заречья.
Тётю Олю, возившуюся во дворе, заметил издалека. Но крёстная увидела его раньше и каким-то шестым чувством поняла всё сразу. Он и рта открыть не успел, чтобы объясниться, а старая женщина уже голосила:
– Лёша-а, ты чё уду-у-ма-ал?! Пошто?! Лёша-а, сыноч-ка-а…
– Тётя Оля, тёть Оль… Автобус скоро, побегу я.
– Лёша-а, сы-ноч-ка-а ты мо-ой жал-ко-ой… Чё ты, родненько-ой, уду-ма-ал… чё?
– Я напишу. Как приеду, сразу и напишу!
– Ой же! Ой… Уби-и-ю-ют табя-я, уби-и-ю-ют!.. – и вдруг цепко ухватилась за него дрожащими руками. – Не-е пушшу-у…
Лёшка бережно отнял руки:
– Тётя Оля, тётя Оленька, лучше перекрести меня.
Билет на поезд в Курске он взял сразу. На проходящий до Москвы. Времени в запасе оставалось ещё около часа, и он решил потолкаться по торговым рядам, кучно сбитым на привокзальной площади.
Торговали здесь кто чем мог: новым и старым, чужим и домашним, остатками прошлых, советских ещё, времён и новым, привозным китайско-турецким барахлом.
Татьянину мать он вначале и не узнал. Обвешенная разноцветным товаром: шарфами, платками, детскими колготками, – она толстой тряпичной куклой раскачивалась в ряду таких же самоварных тёток и зычно зазывала к своему лотку:
– Сюды!.. Сюды!.. Не проходите мимо! Девочки, девушки, дамочки… Всё для вашего антиресу, ка мне, ка мне пожалте!