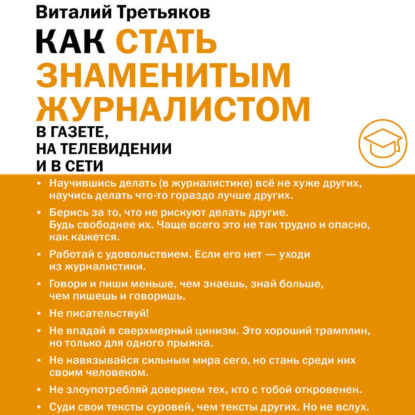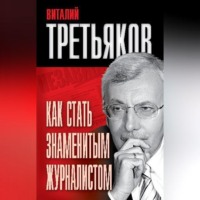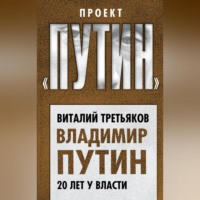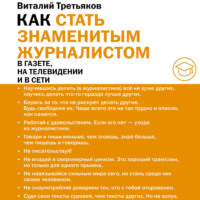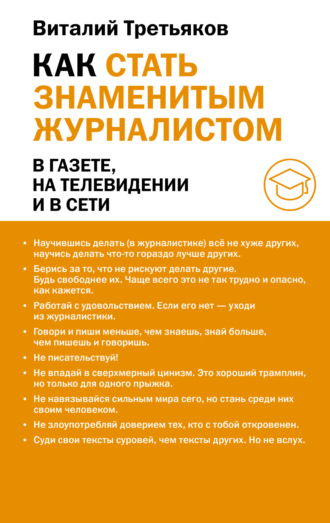
Полная версия
Как стать знаменитым журналистом
Журналистом является тот, кого общество и закон таковыми признаю2 т, основываясь, как правило, на простом критерии: данный человек работает в том или ином СМИ.
Публичны ведь и артисты, которые часто говорят то же самое, что и журналисты, и эксперты-политологи, и уже упоминавшиеся мною политики. Но все они не журналисты, ибо их мнение, даже самое авторитетное, даже отражающее взгляды многих людей, по сути, остается либо частным мнением, либо мнением институции, которую они представляют (театральной труппы, политологического центра, партии и проч.). Не то с журналистами. Им автоматически, по определению предоставляется совсем другое, гораздо более масштабное право.
Общество и закон признают за журналистами, точнее за журналистикой в целом, право говорить от имени общества.
Более ни за кем конкретно, кроме как за главой государства, такое право не признается. Но президент – профессия уникальная. Президент – один, а журналистов – много. Их больше, кстати, чем политиков, за которыми признается право говорить от имени партий, которые они представляют, или от имени общественно значимых групп, но опять же не от имени всего общества.
4. Журналисты как присяжные поверенные общества
Общество признает за журналистами право говорить от его, общества, имени, а взамен требует или, по крайней мере, предполагает, что журналисты будут распоряжаться этим правом ответственно, то есть: не лгать, точно излагать факты, соразмерять общественную значимость события с тем, как его подают в СМИ, и т. п.
Этим журналист тоже отличается от всегда находящегося в курсе происходящего и умело пересказывающего случившееся просто человека – не журналиста. Сколь бы точен (или, напротив, неточен) такой человек ни был, никто не может его в чем-либо упрекнуть – разве что в личном плане. Вступая же в корпорацию журналистов (проще говоря, начиная работать в каком-либо официально зарегистрированном СМИ), журналист, не произнося и не подписывая никакой присяги, тем не менее фактически берет на себя обязательство говорить правду, только правду и ничего, кроме правды (иной вариант: правду, всю правду и ничего, кроме правды). Как свидетель в суде под присягой. Поэтому
журналистов можно назвать присяжными поверенными общества.
Писаного общественного договора на сей счет нет (хотя кое-что в кое-каких законах содержится, но законы, как правило, лишь в малой степени регулируют профессиональную деятельность журналистов), а вот неписаный, однако подразумевающийся, – существует. Конечно, журналисты постоянно его нарушают. Реакция общества на это может быть разной: от (изредка) судебных процессов (там, где есть зацепки в законах) до падения доверия к тому или иному СМИ или к медиа, прессе, журналистам в целом. Однако даже такое падение доверия, выражающееся в известных и довольно распространенных формулах «журналисты всегда врут», «газетам верить нельзя», «телевидение – это большая ложь» и т. п., не отменяет фундаментальной веры общества в то, что пишут и сообщают СМИ.
5. Почему общество верит журналистам?
Понятно, почему. Во-первых, раз СМИ доверено быть гласом общества, то не верить им – значит не верить себе. Во-вторых, средства массовой информации (в демократическом обществе) есть социальный институт, созданный (о чем особенно любят напоминать журналисты) для наблюдения за поведением политиков и вообще сильных мира сего. В этом смысле им тоже нельзя не верить (если не им, то кому же?). Наконец, из общенациональных общественных институтов только еще Церковь (да и то не во всех странах) имеет статус независимости от власти или групп, претендующих на власть. Поэтому, как это ни парадоксально, СМИ являются еще и как бы официальным блюстителем если и не общественной, то по крайней мере политической морали. Вот почему общество верит и продолжает верить журналистам, постоянно критикуя и даже ругая текущую деятельность СМИ.
Журналист общественно, а порой (но редко) и юридически ответствен за свои действия и слова.
6. Имя им – легион
Журналистика – массовая профессия, отдельно взятого журналиста не существует.
В стране (более или менее крупной) не может быть десяти журналистов. Их должно быть несколько тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч. Именно этому легиону в его совокупности и дается право называться журналистами. То есть журналистика – по определению массовая профессия, и появление так называемых блогеров (сетевых журналистов и квазижурналистов) тут ничего не меняет; впрочем, об этом мы еще поговорим отдельно. И, как и всякая массовая профессия, журналистика не может быть сложной. Вот она и проста. Журналистика – это ремесло, а не наука и не искусство.
7. Журналистика как профессия. Определения
Настало время напомнить те определения журналистики как профессии, которые уже были даны мною выше. Их несколько, и они, дополняя друг друга, раскрывают суть нашей профессии в разных ее ипостасях. И все эти ипостаси нужно учитывать, ибо журналистика слишком всеохватна, чтобы быть чем-то одним.
Наиболее значимыми и содержательными определениями журналистики и журналистов как представителей этой профессии являются как минимум пять нижеследующих.
(1) Журналистика есть сложившаяся в эпоху публичной политики система: (а) каждодневного и объективного информирования аудитории (общества), то есть жителей той или иной территории, о наиболее значимых событиях, происходящих на этой и сопредельных территориях; (б) публичной (гласной) оценки этих событий; (в) ориентирования людей относительно причин этих событий, их возможных последствий и в конечном счете относительно вариантов поведения в связи с данными событиями.
(2) Будучи голосом общества, обращенным прежде всего к власти, журналистика, политическая в особенности, является частью изощренно-плюралистической системы управления этим обществом.
(3) Журналистика – это простая и массовая профессия, общественную значимость которой придает ее публичность, то есть постоянная гласная (открытая) работа на публику и, согласно неписаному общественному договору, в интересах публики.
(4) Журналистом является тот, кого общество и закон таковыми признаю2 т, основываясь, как правило, на простом критерии: данный человек работает в том или ином официально зарегистрированном СМИ.
(5) Журналист – это тот, кто пишет и рассказывает о том, что случилось не с ним самим, а с другими членами общества, и излагает в первую очередь не свои мысли, а слова, мысли и идеи тех, от кого жизнь общества зависит. При этом журналисту предоставляется право и даже вменяется в обязанность давать собственные комментарии как к происходящим событиям, так и к делам, словам и идеям других людей.
8. Начало разговора о правде и лжи в журналистике
Проблема эта очень серьезная, более того – одна из самых важных среди тех проблем, что должны изучаться и обсуждаться исследователями современной журналистики. К сожалению, по моим наблюдениям, этого практически не происходит (во всяком случае – фундаментально и системно). А вот в моей книге ей будет посвящен отдельный большой параграф.
Однако уже сейчас, описывая профессию журналиста в ее основных и общих чертах и качествах, я должен этой проблемы коснуться, ибо она непосредственно связана с тем доверием, которое, согласно неписаному общественному договору, общество оказывает журналистам, причем всем, так сказать, скопом, без разбора их профессионализма и добросовестности, давая им для постоянной эксплуатации в виде СМИ такую общенациональную трибуну, каковой не имеет ни оно само в целом, ни любой из отдельно взятых его представителей.
При этом по умолчанию предполагается, что журналисты честны, объективны, непредвзяты и даже почти не ошибаются. Ну, если не все журналисты, то журналистика в целом, ибо она – в обмен на доверие общества – ответственна по отношению к обществу как институт, а каждый журналист в отдельности эту ответственность осознает и в меру сил пытается ей соответствовать.
Между тем, уже не в первый раз замечу я, журналисты – это тоже люди. Со всеми свойственными людям слабостями, включая – перечислю пока только самое безобидное – склонность к ошибкам, фантазии, личные пристрастия и прочее в том же духе.
«Мысль изреченная есть ложь», – сказал Федор Тютчев, не имея в виду именно журналистов. Современные СМИ добились прямо противоположного (и в этом тоже их сила): ложь изреченная есть мысль. Более того:
ложь, изреченная СМИ, есть правда (хотя бы на время).
Но почему журналисты могут лгать или, по меньшей мере (пусть в результате ошибок), распространять ложную информацию? Почему они вообще могут, причем чаще всего безнаказанно, злоупотреблять своей профессиональной деятельностью? Да потому, что журналистика по природе своей и как социальный институт куда более безответственна, чем родственные ей политика или даже писательство, в котором право на вымысел декларируется априори, открыто и честно. Кроме того, писательство (литературное сочинительство) – вещь строго индивидуальная и авторская. В отличие от журналистики.
Журналист, творя индивидуально, на самом деле есть анонимный работник конвейера, выпускающего потоком тексты, то есть слова, слова, слова…
9. Где и как журналисты прячутся от ответственности
Журналистика, особенно телевизионная, – это коллективное творчество. Политик, споровший глупость, не сошлется на ошибку спичрайтера, если даже она и будет тому виной. Писатель, проморгавший в своем тексте ахинею, никогда не признается, что этот пассаж остался в его романе из-за невнимательности или небрежности редактора. У журналиста же всегда есть возможность увильнуть от ответственности за ошибку, особенно если редакция готова ему в этом помочь.
Политики не скрываются за псевдонимами. Писатели тоже не скрываются – использование ими (кстати, довольно нечастое) псевдонимов имеет, как правило, совсем иную, нежели анонимность, цель. Журналисты же используют псевдонимы и иные способы сокрытия своего авторства массово и постоянно. Конечно, сокрытие своего авторства за псевдонимом практически невозможно для тележурналистов, но на телевидении существует множество других способов спрятать концы той или иной ошибки.
Стать политиком или писателем – это значит приобрести имя, выделяющее тебя среди других. Стать журналистом – значит поступить на работу в редакцию газеты или телекомпанию, поставив поверх своего имени тавро данной газеты или компании.
Писатель и политик не будут выступать под разными псевдонимами – у них либо собственное имя, либо один псевдоним (как правило, если фамилия неблагозвучная или слишком распространенная). Характерен пример Владимира Ленина, имевшего как журналист десятки псевдонимов, а как политик – всего один, сросшийся с реальной фамилией: Ульянов-Ленин.
Но, возразят мне, самые известные журналисты не выступают под разными псевдонимами. Это так. Но, во-первых,
журналистика на 99 % делается безвестными (фактически) журналистами.
Именно поэтому, когда ссылаются на ту или иную публикацию, чаще всего упоминают СМИ, в котором она вышла, но не конкретного ее автора, особенно если он – штатный сотрудник этого СМИ. Например: «“Вашингтон пост” считает…» или «Как пишет “Нью-Йорк таймс…”».
Во-вторых, журналист прикрыт еще и тройной линией обороны.
Первая линия – его редакция или медиахолдинг, в который данное СМИ входит.
Вторая – в целом журналистская корпорация, не всегда, но чаще всего защищающая «своего».
Третья, самая серьезная, линия – «священная корова» свободы слова.
В целом – это Система, бороться с которой и трудно, и небезопасно. Система «СМИ-журналистика».
Журналисты и чиновники, за которыми тоже стоит Система, – два самых безответственных профессиональных клана в нашей, да и не только в нашей, стране.
«А как же суд?» – станет возражать блюститель журналистской чести, правда, блюдущий ее не там, где она в реальности находится.
Глупый вопрос, но ответить придется. Во-первых, суд как общественный институт подвержен таким же предрассудкам о журналистике, как и любая другая группа граждан, а перед догмой о свободе слова по закону бессилен и суд – нужна лишь известная профессиональная ловкость журналиста, чтобы «изречь ложь» определенным образом. Во-вторых, судебный иск против журналиста множит, как правило, его известность, а следовательно, и неприкасаемость. Существует целая категория журналистов, особенно в бульварной прессе, которая провоцирует «героев» своих текстов, в первую очередь знаменитых, на суды.
Кстати, а много ли мы слышали о судебных процессах над журналистами, да еще таких, в которых журналисты проиграли? Крайне редко. И уж точно гораздо реже, чем о судах над представителями любых других профессий. И это, конечно, не случайно. Кстати, в этом есть и позитивный смысл (дополнительная гарантия свободы журналистской работы), и негативный (индульгенция безответственности).
Журналист неприкасаем, хотя и подсуден – в обществе, но не в своем средстве массовой информации.
Дело в том, что внутриредакционная (корпоративная) этика, как правило, диктует следующее: своего сдавать нельзя, если только его ошибка или его поступок не нанесли неприемлемый ущерб данному средству массовой информации. Сдавать нельзя, но можно (а часто и до2лжно) наказать скрыто от публики, внутренним распоряжением. Конечно, в этом плане журналистика не является чем-то исключительным. «Не сдавать своего» – это один из главных принципов любой корпоративной этики, и в общем-то понятно, почему он появился и живет.
Печальным следствием общественной неприкасаемости журналистов является то, что проблемы, возникающие в связи с ними, порой решают физическим путем.
10. О талантливости и «гениальности» в журналистике
Конечно, проблема таланта не чужда журналистике, хотя это и массовая профессия. Но талант – это одно, а простота профессии – другое.
Сказанное нисколько не умаляет ни труда журналиста, ни исключительной (особенно сегодня) важности этой профессии. Ведь к разряду простых профессий относятся и такие вполне почетные и уважаемые (а порой даже вызывающие восхищение или возмущение), как писатель, политик, артист, проститутка. Кстати, все они публичны, как и журналистика.
Журналистика – профессия не для гениев.
Я фиксирую эту максиму о несовместимости гениальности и журналистики по двум причинам. (Максимами журналистики я называю выделенные таким образом, как абзацем выше, утверждения, в правильности которых я уверен.)
Перво-наперво, для того, чтобы позолотить пилюлю, я упомянул в ряду простых профессий вместе с журналистикой писательство, актерство и политику. Так вот, чтобы уж совсем не осталось иллюзий: имеются гениальные писатели, наличествуют гениальные актеры, были гениальные политики (я говорю «были», поскольку сейчас эта профессия в силу ряда обстоятельств, прежде всего – в силу той же массовости, чего не было прежде, тоже, кажется, перестала быть прибежищем для гениев). Но гениальных журналистов нет по определению. Ибо эта профессия сразу же родилась как массовая и к тому же (подробнее об этом ниже) конвейерная. А у конвейера гениям не место.
Вторая причина, по которой я выдвинул эту шокирующую, на первый взгляд, максиму в самом начале моей книги, состоит в том, что синдром одержимости гениальностью в современной русской журналистике стал, по моим наблюдениям, достигать масштабов эпидемии. Правда, нужно иметь в виду, что в языке постоянно происходит стирание смысла многих слов, в том числе и в первую очередь – как раз самых высоких. «Я написал гениальную заметку!» – такими ремарками всегда (во всяком случае, на моей профессиональной памяти) любили бросаться в редакциях. Но в то время, когда я был практикующим журналистом и главным редактором «Независимой газеты», эти слова произносились либо с самоиронией, либо как эвфемизм: я принес тебе, редактору, нечто очень интересное. А вот сейчас, кстати, с помощью телеведущих и масскультной гламурной тусовки эпитет «гениальный» стал настолько расхожим, что услышать его можно буквально на каждом углу. А точнее – в каждой второй телепередаче. Только исчезли и самоирония, и ирония, а в совокупности – вкус (в том числе языковой). Но я говорю об искреннем ощущении собственной реальной гениальности. Хотя бы на уровне журналистики. Ну и не без некоторого замаха на литературу.
Лично я своим журналистам всегда говорил, возможно, кого-то разочаровывая, а кого-то и отталкивая: чувствуешь себя гением – уходи из газеты! Лучше всего в писатели, на худой конец – на телевидение. Ибо там, по меткому замечанию шекспировского могильщика, все такие, как в Англии, – все сумасшедшие.
Впрочем, должен признать, да вдохновит это влюбленных в журналистику, что с помощью этой профессии сегодня можно стать очень влиятельным и/или чрезвычайно знаменитым человеком. Пусть это будет утешением тем, кто готов пожертвовать своей якобы гениальностью или мечтами об удивительно романтической и возвышенной профессии журналиста ради реальной работы в современных СМИ.
Глава 3
Традиционные теории журналистики: их достоинства и недостатки
Журналистика как профессия процветает. Средства массовой информации (СМИ), в которых журналисты и работают, множатся. И определенным образом функционируют, видимо, подчиняясь каким-то законам.
Значит, есть и законы журналистики, складывающиеся в какую-то теорию? В одну, принятую всеми, теорию, или тут, как и в самой журналистике, царит так называемый плюрализм?
Кстати, а чему в этом смысле обучают на факультетах журналистики? Всюду одному и тому же или в разных университетах разному?
Необходимо в этом разобраться. Хотя бы потому, что феномену журналистики, по крайней мере в ХХ веке, посвящено немало практических исследований и теоретических работ. И множество учебников журналистики написано. Едины ли они в понимании того, о чем рассказывает и моя книга?
1. Опять о банальном и журналистике
Итак, профессия журналиста чрезвычайно проста, но одновременно крайне значима в современном обществе. В этом есть, как я отмечал, известный парадокс, но нет особой исключительности (эксклюзивности, на жаргоне нынешних СМИ). Например, профессия политика (не путать с политиками, занимающими государственные посты и должности) не сложнее. Что должны уметь политики? В принципе, только одно – говорить на митинге, в парламенте, на пресс-конференции, особенно перед телекамерами банальные вещи (а иное для политики противопоказано, иное говорят политологи), но так, чтобы в глазах аудитории это выглядело откровением. Однако без класса профессиональных политиков (вождей народа, по-гречески – демагогов) не существует современного общества и современного государства.
То же и журналисты. Их главная задача (помимо сообщения новостей) – писать и говорить банальности в момент, когда эти банальности более всего похожи на откровения.
Кстати, если формулировка этого утверждения принадлежит мне, то сам факт подмечен давно. И прежде всего, конечно, учеными и литераторами. Для иллюстрации этого я ограничусь здесь лишь изящной и точной эпиграммой Евгения Боратынского, написанной в 1837 году.
Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена
В свободной прозе романиста;
Болтунья старая, затем,
Она, подъемля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.
Пока я говорю о задаче журналистов скорее в технологическом, чем в сущностном аспекте. Но, кстати, самом важном технологическом аспекте, высшем технологическом. Учиться игре перевода банальности в откровение, точнее говоря, конечно, – в неожиданное оригинальное, бесполезно. Ты либо это умеешь, если есть соответствующий талант, либо нет.
Если кому-то недостаточно уже приведенных доказательств простоты журналистского труда, то дам совершенно обезоруживающий пример, причем взятый из реальной жизни, то есть из практики, которая, по определению Карла Маркса, является лучшим критерием истины. И это – верное определение.
А пример такой. В годы гласности, перестройки и дальнейших полуудачных демократических реформ, когда новые СМИ возникали буквально как грибы после дождя, в журналистику хлынул поток (потоп?) неофитов, а по-русски говоря (правда, используя все равно нерусское слово), – профанов. Все они учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. А часто – и вообще ничему. И тем не менее именно эти профаны составили основу когорты современных журналистов России; многие из них стали знаменитейшими людьми страны.
2. Журналистика и наука: журналистика не наука, но…
Конечно, профессиональное образование никогда не служило помехой успеху на журналистском поприще, но не определяло его. И все же чаще всего известными журналистами становятся не выпускники журфаков. И это – норма, а не исключение. Что, однако, не означает, что в журналистике совсем уж ничего нет от науки. Просто нет науки с названием журналистика, а вот от науки в журналистике кое-что есть.
Строго говоря, эту дисциплину я определил бы так:
теория журналистики есть раздел современной практической политологии, имеющий некоторые научные основы в психологии масс, в социологии и политике (как науке).
Итак, самой науки журналистики нет, но кое-что от науки в журналистике, а точнее – в теории журналистики, безусловно, есть. И это – в первую очередь – определение реальных, а не мифических функций, выполняемых журналистикой в современном мире. Имеется также более или менее кодифицированное описание журналистских жанров (в соответствии с критериями дифференциации текстов, создаваемых в СМИ), а также недлинный перечень навыков (приемов) журналистского ремесла.
Жанрами можно распоряжаться бездарно, навыками владеть – крайне слабо и ограниченно, и при этом оставаться журналистом. Но нельзя, будучи журналистом, талантливым или бездарным, знаменитым или безвестным, не выполнять в своей повседневной конвейерной деятельности основных (главных) функций современной журналистики. Причем выполнять их приходится все одновременно, а не по собственному выбору, то есть вне зависимости от того, что ты хочешь, а чего не хочешь делать.
3. О функциональной теории журналистики
То, что я несколько вольно (причем я осознаю эту вольность, ибо уже отметил: науки журналистики нет, но в теории журналистики есть кое-что от науки) называю моей концепцией журналистики, можно определить как функциональную теорию журналистики (или функциональную теорию СМИ). Но прежде чем перейти к ее изложению, я должен кратко описать другие, уже существующие в этой сфере, так сказать, традиционные теории. Их множество – и все они в основном западного (как правило, англосаксонского) происхождения.
4. Западная теоретическая медиаклассика
Начну с четырех классических теорий, без описания которых не обходится ни один учебник журналистики на Западе и в нашей стране, а также еще двух, которыми считаю необходимым дополнить классическую четверку.
В 50-х годах прошлого века американскими исследователями Фредериком Сибертом, Теодором Питерсоном и Уилбуром Шраммом была предложена следующая классификация основных теорий прессы, по мнению этих авторов, реализующихся к тому времени в разных странах и при разных политических режимах: авторитарная, либертарианская, социальной ответственности и советская коммунистическая.
Я бы назвал это классификацией, скорее, не теорий, а моделей прессы (шире – СМИ вообще), но буду придерживаться уже устоявшейся терминологии.
4.1. Авторитарная теорияОна предполагает отсутствие какой-либо подлинной независимости СМИ и работающих в них журналистов, их полное подчинение государственной власти. Понятно, что такое положение возможно и наличествует при жестко-авторитарных, диктаторских или деспотических режимах. При этом оно обеспечивается и оправдывается соответствующими законами и официальными запретами (вплоть до прямой цензуры), нарушение которых приводит к репрессиям, как правило, тоже предусмотренным в законодательстве или в подзаконных, но всем известных актах.