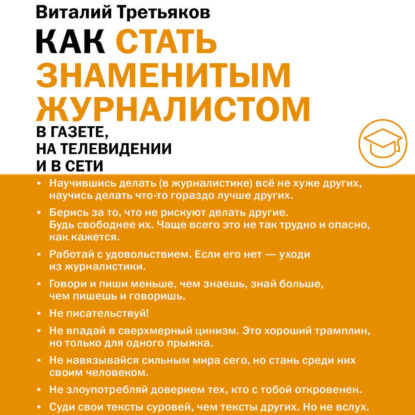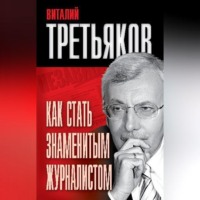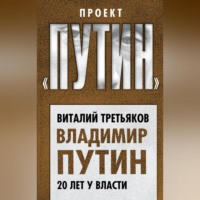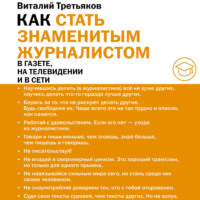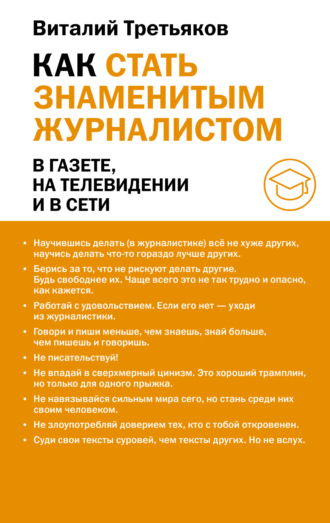
Полная версия
Как стать знаменитым журналистом
11. Где и как можно спрятаться от влияния и внимания СМИ?
Время от времени я даю своим студентам задание написать сочинение на тему, где всего лучше скрыться от внимания или воздействия СМИ, если это возможно в принципе. Абсолютное большинство сочинений, естественно, сводится к тому, что от воздействия СМИ нельзя скрыться нигде и никогда. Конечно, находятся те, кто сообщает, что существование СМИ можно просто игнорировать: не читать газет, не слушать радио, не смотреть телевизор. В общем-то, это верно, но такая жизнь анахорета вообще выводит тебя из существования внутри общества. Более интересным был ответ одной студентки: она предположила, что в отношениях матери с маленьким ребенком отсутствует фактор влияния СМИ. Если отбросить медицинско-гигиенические советы (в том числе и по каналам рекламы, распространяемой в СМИ), то это верно. Правда, данная студентка не поднялась до обобщения того, на что она абсолютно правильно указала. А это обобщение таково:
любое сильное чувство, прежде всего любовь, выводит человека из-под влияния СМИ, – по крайней мере, из-под влияния по поводу отношений с объектом этого сильного чувства.
Но есть и еще более интересный ответ: надежнее всего от влияния и воздействия СМИ можно спрятаться внутри самих СМИ. Действительно, менее всего СМИ и работающие в них журналисты расположены рассказывать правду о собственных тайнах, если даже эта правда крайне значима для общества.
Ни одно средство массовой информации, требующее оглашения всей правды, только правды и ничего иного, кроме правды, о деятельности или поведении какого-либо института или человека, никогда не расскажет всей правды (и далее – по формуле) о себе.
Об этом стоит задуматься любителям публично рассуждать об особой моральности или особом правдолюбии журналистов, СМИ вообще.
12. О политической журналистике
Должен заметить, что я в основном буду рассказывать именно о политической журналистике. И не только потому, что она больше мне знакома. Главных причин две:
(1) по степени своего влияния на аудиторию политическая журналистика является наиболее мощной, сам фактор влиятельности имманентно присущ политической журналистике – для того она, в конечном итоге, и существует;
(2) политическая журналистика очень концентрирована. Все, что в других тематических видах журналистики может быть размыто, необязательно, зависимо от чисто субъективных пристрастий автора, в политической журналистике заострено и почти императивно.
13. Первый (главный, основной) парадокс журналистики
Политическая журналистика, являясь, естественно, частью журналистики в целом, увенчана всеми достоинствами этого благородного общественного института, равно как и страдает всеми его пороками. Мне еще представится случай углубиться в описание и того, и другого, но для начала скажу, что все известные определения журналистики, включая самые метафорические, по-своему верны. И «вторая древнейшая профессия» (я лишь уточнил бы, что третья, ибо вторая – это, безусловно, политика), и «четвертая власть», и даже хрущевские, кажется, «приводные ремни», не говоря уже о ленинском – «важнейшая часть партийной работы». В этом феномен журналистики, ее парадоксальная суть.
Будучи голосом общества, обращенным прежде всего к власти, журналистика, политическая в особенности, является частью изощренно-плюралистической системы управления обществом.
Вот он, первый и основной парадокс журналистики, раздвоивший сознание, мораль и поведение сотен тысяч современных журналистов.
14. О простоте журналистики как профессии
С одной стороны, журналистика – профессия достаточно специфичная, и в ней работают люди, занимающиеся вполне конкретным и определенным трудом и обученные соответствующим профессиональным навыкам. Так же, как в овощном магазине, помимо продавцов, работают, например, грузчики.
Для того чтобы выполнять работу грузчика, не нужно быть профессионалом. Конечно, нужно знать определенные правила: «Не бери центнер – не поднимешь и надорвешься»; «Не бросай груз, а клади, потому что он разобьется, с тебя возьмут деньги за то, что ты испортил» и проч. Но все эти правила понятны на уровне здравого смысла. Строго говоря, нет такой профессии – «грузчик по переноске мешков»: любой человек, более или менее здоровый (а жизнь заставит – и нездоровый), может взвалить мешок на плечи и понести. И то, что обладающий лучшими навыками и большим опытом пронесет этот мешок на сто метров, а не обладающий ими – на пятьдесят, ничего принципиально не меняет.
Журналистика – безусловно, более сложная профессия, чем профессия грузчика. В журналистике, как и в ряде других профессий, бесспорно, нужно что-то знать. Здесь нельзя действовать так просто: прийти и разгрузить машину с картошкой. Хотя многие в СМИ (особенно в новых сетевых СМИ или те, кто действует в Сети под маркой «независимого журналиста») так и поступают.
В то же время журналистика относится к тем профессиям, которые я называю простыми. В подтверждение я часто привожу такой пример: для того чтобы провести хирургическую операцию, тем более с успехом, непременно нужно учиться и, соответственно, уметь делать вполне определенные вещи, апробированные наукой и практикой хирургии. Чтобы разрезать ткани тела, нужно знать, какой скальпель для этого взять, как края этих тканей закрепить, чтобы за время операции не вытекла вся кровь, – словом, нужно уметь проводить определенные и всякий раз вполне конкретные манипуляции. Есть хорошие врачи, есть плохие врачи, но даже плохие врачи обладают этими знаниями и соответствующими навыками.
Еще более яркий пример, который я всегда привожу.
Сотня журналистов, сколько бы они ни сидели вместе, никогда не сделают самолет, который будет летать. Сто авиаконструкторов, которые соберутся вместе, через несколько месяцев выпустят газету, и, не исключаю, очень хорошую.
Так или иначе, но я утверждаю, что
журналистика – это простая профессия.
15. Политическая журналистика как политология
Сказанное выше нисколько не умаляет профессию журналиста, даже политического. Хотя политическая журналистика наиболее близка к науке, за исключением, разумеется, собственно научной журналистики.
Политическая журналистика – это оперативная, каждодневно отправляемая прикладная политология, хотя журналист не обязательно обладает политологическими знаниями как таковыми.
Политические журналисты разбирают, анализируют политические события, а потом доносят свои выводы и мысли до аудитории, пытаясь воздействовать на политические субъекты и объекты. Именно поэтому это очень важная профессия.
Один из самых главных общественных и собственно политических вопросов – вопрос о власти: кто будет нами управлять? – сейчас не решается без журналистики. Роль журналистики велика, когда речь идет о государствах: враждующих государствах; о государствах, находящихся в процессе развития; о государствах, сравнивающих себя друг с другом. Люди хотят жить лучше, в частности, и потому, что перед их глазами есть пример соседних государств. Людям кажется, что если заменить их правителя, то они будут жить так же хорошо, как и соседи, хотя это не всегда получается. Но все подобные сравнения, то есть взаимосвязи, осуществляются сегодня посредством политической журналистики.
СМИ есть система взаимосвязи всего мира (общества) и разных субъектов и объектов внутри него по поводу самых важных для этого мира (общества) проблем.
16. Немного о происхождении и истории журналистики, а также о ее сути
Журналистика – не такая уж древняя профессия, хотя и говорят, что она вторая древнейшая (мне тоже уже пришлось употребить эту метафору, хотя я и несколько уточнил ее). Журналистике в точном понимании этой профессии не более 350–400 лет. Первые газеты, как утверждают историки печати, появились в Германии в самом начале ХVII века. То есть, строго говоря, журналистика довольно молода – особенно если сравнивать с другими профессиями такой же важности – политикой, медициной, педагогикой, военным делом, дипломатией и т. п.
В России, как известно, первая печатная газета «Ведомости» возникла при Петре I в 1702 году, а впервые – в виде, выражаясь нынешним языком, служебного рукописного вестника «Куранты» – при его отце Алексее Михайловиче.
Большую часть своей истории человечество прожило без журналистики. Исторически это вполне очевидно (хотя людям и кажется, что журналистика «существовала всегда»), но будет еще очевидней, если воспользоваться не вполне точным, но, как правило, синонимичным термину «журналистика» словосочетанием «средства массовой информации».
Никаких СМИ не было не то что в античные времена, но даже и гораздо позже, например, в Средние века и в эпоху Возрождения. Журналистика как профессия и СМИ как социальный институт только-только родились в эпоху Просвещения. Конечно, массовые коммуникации внутри общества осуществлялись и до этого – в основном путем межличностного общения. Владыки издавали указы и оглашали их публично с помощью вестников и глашатаев. Образованные люди вели друг с другом интенсивную переписку. А далее – народная молва, слухи, рассказы путешественников и купцов. Государственная власть и Церковь имели свои системы сбора и распространения необходимой им информации. Ну так эти системы существуют и ныне. Правда, нужно признать, что в античной Греции и Древнем Риме, где публичная политика существовала, были люди, которых по выполняемым ими функциям можно считать предтечами журналистики. Такими «первыми журналистами», точнее пражурналистами, можно назвать античных ораторов, риторов, баснописцев и поэтов – сочинителей эпиграмм, а также так называемых диурнариев – авторов выходивших в Риме времен Юлия Цезаря ежедневных рукописных бюллетеней Acta senatus («Сенатские ведомости») и Acta diurna («Ежедневные ведомости»).
Итак, журналистика в точном смысле этого слова, то есть массовая информация – непрерывно текущие сообщения в неискаженном по отношению к первоисточнику виде, доводящиеся до большинства населения (или, по крайней мере, до всех желающих), – могла появиться как система только тогда, когда, во-первых, в ней возникла потребность у общества, а во-вторых, когда возникла соответствующая технологическая возможность – каждодневно выпускать недорогие в производстве (то есть доступные всем), как бы сейчас выразились, носители информации. Ими и стали такие печатные издания, как газеты. То есть технологически журналистика смогла родиться только после того, как Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок (в середине 1440-х годов). Общественная потребность в ней возникла несколько позже – с момента привлечения народа (городских масс) к прямому или косвенному участию в избрании политической власти. В этом смысле, кстати, журналистика, о чем я уже говорил, совершенно неотделима от публичной политики, ибо родилась как прямое следствие становления политических институтов буржуазной демократии.
Там, где власть становится публичной, пусть даже находясь в руках немногих, но делегированная этим немногим волею многих, появляется журналистика.
В общественно значимых масштабах – это и не ХVI, и не ХVII, а уже XVIII век. Ибо то, что под видом журналистики было ранее, – не более чем технологически усовершенствованный способ общения образованной и властвующей публики (правящего класса) внутри себя.
И фактически лишь в XIX веке (в России – определенно, на Западе несколько ранее) журналистика становится такой, какой мы ее знаем сегодня, то есть собственно журналистикой. Появляются журналисты-профессионалы. Не писатели, философы и политики, которые посредством газет и журналов XVII–XVIII веков общались друг с другом, а профессиональные собиратели и комментаторы информации о событиях, произошедших не с ними, и чужих (а не собственных) идей и поступков.
Журналист – это тот, кто пишет не о том, что случилось с ним, и излагает в первую очередь не свои мысли, а идеи тех, от кого зависит жизнь общества.
В этом смысле настоящий (профессиональный) журналист как бы максимально отчужден от жизни. Отсюда, кстати, и популярность в названиях англосаксонских газет (где, собственно, и родилась современная журналистика) таких слов, как «новости» (news), то есть просто новости, сообщения, и «наблюдатель» (observer), то есть некто, следящий за происходящим со стороны.
История журналистики – не тема моей книги. Поэтому отмечу еще только три вехи. Первая половина XIX века – появление информационных агентств, специализирующихся только на сборе новостей и поставляющих эти новости потоком в разные издания (1835 год – «Гавас» во Франции, 1851-й – «Рейтер» в Англии). Именно в этот момент из газет и журналов как органов массовой коммуникации складывается система СМИ.
Вторая веха, после которой журналистика окончательно стала современной, той, какую мы имеем сегодня, – это, конечно же, 50-е годы XX века – массовое внедрение телевидения, то есть непрерывно длящегося потока доносимых до каждого желающего (практически до всего общества) текстовых и визуальных (то есть наиболее убедительных, по крайней мере – внешне) сообщений.
Третья историческая веха развития СМИ и журналистики связана с событиями, которые произошли в последние десятилетия на наших глазах. Это, конечно, появление глобальной коммуникационной Сети – Интернета, и родившихся внутри него сетевых СМИ и так называемых социальных сетей.
Политической же силой журналистика полномасштабно стала в XIX веке, ограниченно будучи ею и до того, с момента своего рождения, лучшее доказательство чему – государственная цензура, возникавшая в каждой стране не по прихоти правителей, а как естественный первоначальный ответ на появление абсолютно нового политического института.
Наконец, четвертой властью в прямом политическом, а не переносном смысле журналистика (точнее, система СМИ) стала в 60-х годах XX века – тогда, когда в Соединенных Штатах Америки с помощью телевидения стали целенаправленно влиять непосредственно на поведение избирателей во время выборов.
Журналистика – младшая сестра и служанка политики.
17. Немного из истории журналистики в России
Если обратиться к истории журналистики в нашей стране, то с полным основанием можно утверждать, что даже в XVIII веке (по крайней мере, до его трех последних десятилетий, когда в России стали один за другим возникать научные и литературно-политические журналы) российской журналистики фактически не существовало – это была игрушка, хоть и серьезная, часто политическая, образованного сословия. Но от начала XIX века к его концу русская журналистика сделала настолько гигантский шаг, что самый выдающийся и самый известный во всем мире русский журналист (правда, прославившийся в глобальном масштабе как политик) Владимир Ульянов-Ленин правомочно провозгласил первым необходимым шагом для создания новой политической партии учреждение общероссийской политической газеты, с соответствующей этой партии идеологией. И, кстати, добился успеха, что доказывает справедливость его слов. Актуальных и по сей день, хотя ныне, в ХХI веке, речь должна идти уже не о газете, а об общенациональном – как минимум сетевом, как максимум эфирном – телеканале.
18. Второй парадокс журналистики
Таким образом, хотя рождение и становление журналистики произошло достаточно недавно, но тем не менее те слабые информационные связи, которые раньше, до изобретения печатного станка и возникновения журналистики, скрепляли мир, сейчас, по существу, заменены связями через систему СМИ. Само общественное мнение отныне существует в двух ипостасях, часто довольно сильно расходящихся: в своем, так сказать, натуральном виде и в виде виртуальной конструкции, сооруженной в СМИ с учетом натуры, но не совпадающей с ней.
Вытеснение традиционных коммуникаций СМИ-коммуникациями влияет даже на экономическое благополучие населения, ибо все основные экономические новости обычные люди, но они же и основная масса субъектов как производства, так и особенно потребления, получают через самые распространенные, то есть не специализированные, СМИ. А политические и иные общественные процессы сейчас вообще немыслимы без участия журналистики.
В этом и заключается второй парадокс журналистики:
очень простая профессия занимается очень сложными процессами и очень значима в жизни общества, мира в целом.
19. Малая часть большого целого
Многим кажется, что журналист, сидящий в студии телевидения и вещающий на всю страну, – это человек, познавший все в этом мире, человек, для которого нет тайн: он всю ночь читал умные книги, беседовал с десятками специалистов, а потом еще утром, уединившись, размышлял сам, и только после этого сказал нам нечто, чего мы не знали, – открыл нам глаза на правду. Нет, все гораздо проще и одновременно сложнее.
Журналист – лишь конечный элемент колоссальной империи современных СМИ. Вся она стоит за его спиной, многократно усиливая эффект даже самых банальных его слов.
Глава 2
Что это за профессия – журналист?
Трудно ли работать в журналистике? Нужно ли для этого непременно окончить факультет журналистики какого-нибудь уважаемого университета? Чем вообще занимаются журналисты, находясь у себя в редакции или отправляясь на задание?
На эти вопросы может ответить любой здравомыслящий человек, обладающий достаточным жизненным опытом. Но сейчас на них отвечу я.
1. Журналистика – это очень простая профессия
По сути, она не более чем ремесло, сходное с работой уже упоминавшегося мною грузчика или – если кто-то хочет рассмотреть журналистику почти во всей ее сложности – с ремеслом гончара.
В самом деле, давайте вначале четко определим, в чем, собственно, состоит работа журналиста. Точный ответ на этот вопрос следующий: журналист должен узнать о некоем событии (например, о государственном перевороте или о драке в булочной) и более или менее связно (иначе говоря, грамотно) пересказать то, что он узнал, другим.
Нужны ли для этого особые знания? Нет. Любой внятно говорящий и относительно наблюдательный человек может пересказать (или описать на бумаге) то, что произошло при драке в булочной (государственный переворот – совершенно сходное по сюжету событие, только имеющее куда большее общественное значение).
Нужно ли специально обучаться тому, чтобы пересказывать случившееся? Нет. Конечно, есть косноязычные, неграмотные или ненаблюдательные (не улавливающие сути событий или, наоборот, деталей) люди. Но, во-первых, таких достаточно и среди журналистов. А во-вторых – и это главное, – качества неплохого рассказчика являются довольно распространенными и уж точно никак не связаны с необходимостью получения какого-то специального образования или овладением какими-то особыми знаниями.
В булочной случилась драка. Сам журналист в ней не участвовал (то есть даже в этом он банальнее рядовых граждан, подравшихся из-за батона хлеба). Он просто узнал о драке, приехал на место события, когда само событие в своей решающей фазе уже завершилось. Поговорил со случайными свидетелями драки, возможно, с кем-то из ее участников, может быть – со специалистом по событиям данного типа, то есть с милиционером. Далее журналист записал то, что узнал, на бумаге или на своем ноутбуке (и бумагу, и ручку, и пишущую машинку, и портативный компьютер изобрели не журналисты), позвонил по телефону в редакцию (телефон изобрели тоже не журналисты). В редакции заметки журналиста набрали на стационарном компьютере (не журналистское изобретение) и подверстали в готовящийся номер газеты, отправленный затем в типографию. И типографское оборудование (а также радио, телевидение и Интернет) изобрели и произвели не журналисты. Журналисты вообще не изобрели ничего из того, чем они пользуются в своей работе. В чем же тогда сложность их труда?
2. Журналист – это… (догадайтесь, кто)
Когда вы, обычный гражданин, читатель газет и зритель телепередач, благоговеющий перед известными и неизвестными журналистами, приходите домой и рассказываете жене, какую драку вы увидели в булочной, вы делаете абсолютно то же самое, что делают эти знаменитые и никому не известные журналисты.
Но вам и в голову не придет назвать себя журналистом. Этого никогда не сделает ваша жена, которая к тому же и сама регулярно рассказывает вам, что случилось у нее на работе. Кроме того, вам не платят денег за то, что вы делаете абсолютно то же самое, что делают журналисты. А им платят.
«Но ведь журналисты не только рассказывают о событиях, они еще и комментируют их, то есть вписывают в контекст других событий, и анализируют!» – возразит мне блюститель журналистской исключительности.
«Ну и что из этого?» – отвечу я. Когда 19 августа 1991 года в СССР произошел государственный переворот (или, во всяком случае, то, что его внешне напоминало), разве десятки миллионов людей не обсуждали это, не комментировали друг другу случившееся, не анализировали ход событий, не прогнозировали их развитие? Обсуждали, анализировали, прогнозировали.
То есть занимались тем же, чем и журналисты, а многие – даже лучше журналистов, не становясь таковыми. В чем же отличие?
Отличие, конечно, есть. Но это отличие отнюдь не в качестве анализа и даже не в знании деталей: 19 августа 1991 года все: и журналисты, и не журналисты – знали о главном событии примерно одно и то же.
Пока я фиксирую главное в технологии журналистского труда как простого: узнал – пересказал, добавив пару-тройку субъективных (чаще всего) оценок. Ничего сложного. Никакой романтики. Никакого героизма.
Труд журналиста настолько прост, даже примитивен, что и особой профессией-то назвать его нельзя: в каждом коллективе, в каждом многоквартирном доме всегда есть два-три человека, которые обо всем узнаю2 т раньше других и охотно рассказывают об этом коллегам и соседям. В худшем случае их называют сплетниками, в лучшем – людьми, которые всегда в курсе случившегося. Но никак не журналистами.
3. Так чем журналист отличается от сплетника?
В тот же день 19 августа 1991 года десятки миллионов людей в стране понимали, что произошел государственный переворот. И по крайней мере миллионы именно этими словами случившееся характеризовали. Случившееся уже было фактом общественного сознания и даже политики, но не было еще фактом журналистики.
Но когда на дневной пресс-конференции членов ГКЧП тогдашняя корреспондентка «Независимой газеты» Татьяна Малкина задала в переполненном зале и под прямую телетрансляцию Геннадию Янаеву вопрос: «Понимаете ли вы, что сегодня ночью совершили государственный переворот?» – вот тогда и проявился (для данного события) феномен журналистики. К простой любознательности или к простому выражению своего мнения гражданкой Малкиной Т.А. добавилось всего два, но крайне значимых, фактора:
(1) публичность;
(2) принадлежность Малкиной Т.А. к официально признаваемой обществом и властью (то есть законом) системе СМИ.
Публичность есть то, что делает профессию журналиста общественно значимой.
Вы можете сколько угодно рассказывать своей жене, что любите (или, наоборот, не любите) какого-то политика. Это остается вашим личным делом, имеющим какой-то общественный вес только в том случае, если таких же, как вы, очень много. Но даже если вы все выйдете на улицу под лозунгами «Мы любим (или: не любим) президента имярек!», фактом журналистики (но не фактом для журналистики) это не станет.
Вы можете сколько угодно объяснять друзьям и коллегам, почему происходят те или иные события, а они, ваши друзья и коллеги, могут считать эти объяснения блестящими, однако это не сделает вас журналистом.
Вас даже могут приглашать в качестве эксперта (если вас признаю2 т таковым) для участия в каких-либо телевизионных ток-шоу, где вы будете излагать свою версию тех или иных событий, но и это не сделает вас журналистом, хотя – при частом появлении на экране – вы превратитесь в так называемое медийное лицо. Ваше личное мнение останется вашим личным мнением (убедительным или не очень), в лучшем случае – вашим экспертным мнением. Оно впишется в общий медиаконтент (то есть в содержание того, о чем сообщают СМИ), но и от этого вы не станете журналистом, как не становятся ими, например, политики или некоторые ученые, которых СМИ цитируют гораздо чаще, чем ссылаются на мнения большинства журналистов.