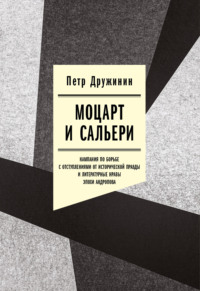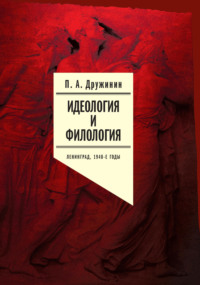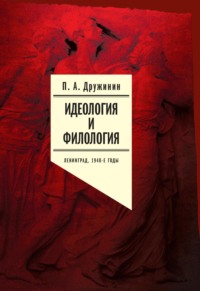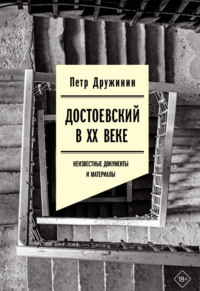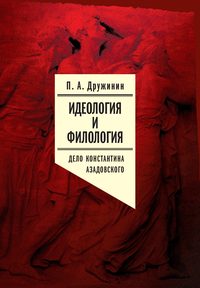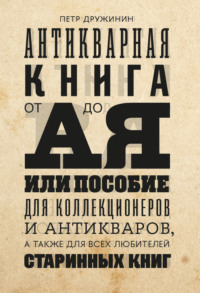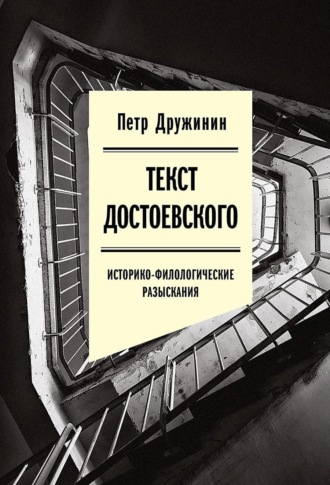
Полная версия
Текст Достоевского. Историко-филологические разыскания
Издание «Записок» в академическом Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского[40] («1972»), работа над которым началась в 1966 году[41]. Подготовка текста для этого издания была произведена И. Д. Якубович, редактор тома – Ф. Я. Прийма. В данном случае в качестве основного текста Ирина Дмитриевна избирает источник «1875», то есть последнее прижизненное издание, и также с некоторыми исправлениями по более ранним публикациям и «с устранением явных опечаток, не замеченных Достоевским»[42] (указаны 34 сделанных редакцией исправления).
Избрание источника текста в данном случае согласуется с общей позицией редакции академического Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского: «Тексты, опубликованные Достоевским при жизни, печатаются, как правило, по последнему изданию»[43]. Глава «Товарищи», которая не вошла в состав издания 1875 года, была приведена по тексту «1865», то есть также в соответствии с провозглашенным принципом последнего прижизненного издания.
4 (1997)Издание «Записок» в собрании сочинений Ф. М. Достоевского, подготовленном под редакцией проф. В. Н. Захарова и имевшем подзаголовок «Канонические тексты»[44] («1997»), в котором тексты печатались в старой орфографии («научное издание в авторской орфографии»). В выборе «канонического текста» составители идут вослед академической традиции, и сочинение «печатается по тексту 1875» с рядом исправлений по более ранним изданиям[45].
В издании поименована «текстологическая группа»: Л. С. Артемьева, Г. В. Борисова, О. И. Гурина, В. Н. Захаров, Т. А. Каракан, А. А. Кемпи, И. И. Куроптева, О. Б. Решетникова, Н. А. Тарасова[46]. Примечательно, что хотя в издание «1875» не вошла глава «Товарищи», как и указано в текстологическом комментарии (речь об упоминании, что глава «Товарищи» входила не во все издания «Записок»[47]), однако откуда именно был взят текст этой главы в «Канонических текстах» – не поясняется.
Этот научный коллектив манифестировал факт полного овладения источниками авторского текста:
Мы работаем со всеми редакциями: набираем все тексты, на основе последней редакции сводим все варианты в общую редакцию, делаем анализ разночтений и устанавливаем канонический текст. Наша методика анализа разночтений со всей наглядностью позволяет выявить типичные опечатки и ошибки[48].
Издание 1997 года в свою очередь послужило источником текста для публикации в «Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского в XVIII томах» (Т. 3, 2003), подготовленном также силами В. Н. Захарова и его коллег, но уже в современной орфографии. В предисловии к этому изданию мы читаем:
Наше собрание сочинений – самое полное из всех Полных собраний сочинений. <..> Тексты подготовлены к публикации на основе нового научного издания произведений Достоевского в авторской орфографии, в котором восстанавливается авторская воля писателя, определяются канонические тексты его произведений. Для настоящего издания все тексты писателя приведены в современной орфографии с сохранением авторских особенностей художественной речи Достоевского. Наши буквы и знаки препинания восстанавливают дух и смысл творчества Достоевского[49].
5 (2003)Еще одна научная версия текста «Записок из Мертвого дома» напечатана в собрании сочинений Ф. М. Достоевского в девяти томах:
Подготовка текстов, составление, примечания, вступительные статьи председателя Комиссии по изучению творчества Ф. М. Достоевского ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, д. филол. н. Татьяны Александровны Касаткиной.
Как сообщается в аннотации,
В издании впервые публикуется комментарий нового типа, включающий, помимо традиционного литературоведческого, и интерпретационный, смысловой комментарий, вскрывающий евангельскую основу произведений Ф. М. Достоевского, объясняющий символические детали, «говорящие» имена, особенности художественного мира писателя[50].
Хотя это собрание сочинений действительно изобилует комментариями, текстологическая работа не была целью при подготовке издания. На обороте же титульного листа содержатся два взаимоисключающих указания:
При публикации текстов за основу принималось Полное собрание сочинений в 30 томах, изданное Академией наук СССР (1972–1990). Подготовка текстов производилась по изданиям произведений Ф. М. Достоевского в старой орфографии[51].
Уже далее, в комментарии, делается указание:
При подготовке текста использовано издание: Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Издание в авторской орфографии и пунктуации под редакцией профессора В. Н. Захарова. Петрозаводск, Т. 3, 1997[52].
Таким образом, это издание представляет собой орфографическую модернизацию издания «1997», так называемых Канонических текстов.
6 (2015)Замыкает этот перечень научных публикаций «Записок из Мертвого дома» второе издание академического Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского[53] («2015»). В редакционном введении сообщается:
…тексты, опубликованные Достоевским при жизни, печатаются, как правило, по последнему авторизованному изданию. Остальные произведения и письма печатаются по автографам, а в случае их отсутствия – по стенографическим записям А. Г. Достоевской, авторитетным копиям, посмертным публикациям и другим источникам. Из текста принятой для печати редакции на основании всех первоисточников устраняются явные описки, типографские опечатки, а также цензурные искажения и другие отступления от подлинного авторского текста. Исправления, внесенные в текст в результате этого сличения, оговариваются в комментариях (кроме исправления явных описок и опечаток)[54].
Подобно первому академическому Полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского («1972»), источником служит последнее прижизненное издание «Записок из Мертвого дома»: «Печатается по тексту 1875 с устранением явных опечаток, не замеченным Достоевским»[55], а также с исправлениями по остальным шести источникам текста.
Подготовка текста «Записок» была выполнена коллективом квалифицированных текстологов:
Для второго издания текст и варианты прижизненных изданий «Записок из Мертвого дома» подготовил В. Д. Рак при участии М. Д. Андриановой. Обновление и дополнение примечаний <..> выполнила И. Д. Якубович <..> Редактор тома – В. Д. Рак. Контрольный рецензент – С. В. Березкина[56].
* * *Таким образом, начиная с первого научного издания «Записок из Мертвого дома» – «1926», то есть уже целое столетие, если и отмечалось разномыслие у исследователей, то исключительно относительно избрания наиболее авторитетного источника текста. Что же касается числа печатных источников, то константа сохраняется с того же 1926 года. Насколько это соответствует исторической действительности, мы сможем убедиться, рассматривая подробно эти печатные издания и привлекая к нашему исследованию необходимые архивные источники.
Глава II
О «Русском Мире»
Печатная история «Записок из Мертвого дома» начинается с «Русского Мира». Значительная роль в появлении этой публикации принадлежит А. С. Гиероглифову[57], хотя ряд исследователей и считают ее излишне преувеличенной[58]. Хрестоматийная же версия начала обнародования «Записок из Мертвого дома» сформулирована в комментарии к академическим Полным собраниям сочинений, а в сокращении «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского» звучит следующим образом:
Сентября 1 <1860>. В № 67 еженедельной «политической, общественной и литературной газеты» «Русский Мир» опубликованы «Введение» и I глава «Записок из Мертвого дома», беспрепятственно прошедшие цензуру[59].
Прежде чем вернуться к цитате из «Летописи», расскажем о самом издании. Примечательно, что хотя формально «Записки из Мертвого дома» были напечатаны в 67-м номере (за 1 сентября 1860 года), но в действительности – в самом первом номере газеты «Русский Мир» после ее реорганизации.
С самого основания в 1859 году эта еженедельная газета (де-факто журнал, выходивший сначала по пятницам, затем дважды в неделю – по средам и субботам) издавалась книгопродавцем Я. В. Писаревым и редактировалась В. Я. Стоюниным. Форматом газета была в четвертую долю печатного листа и выдерживала этот формат в течение первого года, но с начала 1860-го увеличила формат до собственно газетного, объяснив такой шаг необходимостью поспевать к назначенным дням (фальцовка замедляла выход издания в свет и доставку подписчикам). По-видимому, то был лишь способ удешевить издание ввиду низкой подписки, что подтверждается и дальнейшими событиями: к весне 1860 года положение «Русского Мира» резко ухудшилось, в конце марта газета стала катастрофически запаздывать с выходом, почему в апреле и была достигнута договоренность о передаче издания в другие руки. Начался постепенный переход издания купцу Ф. Т. Стелловскому, который в свойственной себе манере сперва под видом помощи изданию вошел в число комиссионеров, а затем объявил о новой подписке (с 1 мая) и планах на перемену с 1 сентября не только редактора издания, но и всей редакционной политики.
Начиная с № 28 (16 апреля 1860) газета уже печатается в типографии Ф. Стелловского, имя В. Я. Стоюнина как редактора пропадает (подготовка продолжилась силами прежних сотрудников), а относительно «новой редакции» печатались постоянные известия. Новым редактором предполагался А. С. Гиероглифов, человек порывистый и деятельный, – именно ему принадлежало право издания «Русского Мира», но газета была отягощена долгами.
1 августа 1860 года между купцом Ф. Т. Стелловским и титулярным советником А. С. Гиероглифовым был заключен контракт (см. Приложение 1), в согласии с которым купец покупал за пять тысяч рублей право издания «Русского Мира» со всеми долгами, а редактором издания и компаньоном становился А. С. Гиероглифов[60]. Впрочем, первоначально, то есть в момент реорганизации, предполагалось издавать журнал, с приведением его к прежнему формату ин-кварто; однако, когда появилась необходимость заново регистрировать издание в цензурном комитете уже на правах журнала, пайщикам оказалось проще оставить «Русский Мир» формально газетой. Обо всех изменениях новая редакция предварительно известила и читателей:
Если бы мы начинали снова нашу деятельность, было бы совершенно излишне входить в такие объяснения, которые теперь нам кажутся необходимыми: издание журнала «Русский Мир» в течение полутора года сопровождалось до сих пор множеством разных неисправностей конторы журнала в отношении к публике, о чем мы имеем повод заключить из многочисленных жалоб от подписчиков, и потому естественно, что журнал не пользуется должным кредитом. Нам остается уверить, что с выходом журнала под новой редакцией будут устранены непременно все неисправности вообще по изданию журнала. Содержание конторы, печатание и рассылку журнала принял на себя содержатель музыкального магазина, поставщик Двора Его Величества, Ф. Стелловский, с полной гарантией на исправность.
Редакция надеется, что принимаемая ею система издания журнала «Русский Мир» доставит ему приличное место в нашей журналистике, крайне бедной еженедельными обозрениями. В вознаграждении за литературный труд редакция будет следовать размеру гонорария, принятому в лучших наших ежемесячных журналах[61].
Как обстояло дело с привлечением Ф. М. Достоевского в это печатное издание, вполне известно[62], и 23 августа 1860 года писатель получил от А. С. Гиероглифова семьсот рублей серебром «за будущую статью» для первых номеров журнала[63]: по-видимому, то было платой как за вводную часть и главу I, так и за дальнейшее, потому что писатель предполагал договориться о печати «Записок из Мертвого дома» в «Современнике» при условии «если дадут 200 р. с листа», приведенная же выше декларация о гонораре говорит нам о том, что договоренность состояла по меньшей мере о трех-четырех листах.
В любом случае, в номере «Русского Мира» от 1 сентября 1860 года появились Предисловие и глава I; вторая же глава была задержана, и рассмотрение ее в цензуре затянулось; только 12 ноября было дано разрешение на ее издание, но А. С. Гиероглифов решил возобновить печатание с нового 1861 года.
Здесь мы вынуждены вернуться к утверждению, будто введение и первая глава «прошли цензуру беспрепятственно»[64]. Откуда это известно и почему с такой безапелляционностью утверждается в литературе вопроса? Ответа на это у нас нет, есть лишь предположение, что ввиду задержки с появлением продолжения и общеизвестных сложностей в Петербургском цензурном комитете было ошибочно предположено, что раз в 1860 году начало «Записок из Мертвого дома» вообще вышло в свет, а затем временно прекратилось, то, значит, внимание на них цензура обратила не сразу. Хотя такое объяснение, безусловно, никак не свойственно тому цензурному гнету, который испытывала периодическая печать в 1860 году, и мы бы сочли такое объяснение неубедительным. Возможно, была и иная причина утверждения о «беспрепятственности», но в любом случае ошибочность этого утверждения будет нами объяснена ниже.
Стоит настоять на необходимости привлечения к истории публикации «Записок из Мертвого дома» и архивных материалов Петербургского цензурного комитета. Если обратиться к реестру выданных билетов, по которому окажется возможным узнать не номинальную дату издания этого номера «Русского Мира», а действительную, то миф о беспрепятственном прохождении начала «Записок из Мертвого дома» через цензуру моментально развеивается: этот номер, на котором была выставлена дата «1 сентября 1860 года», после всех согласований и, видимо, препирательств с цензором был в окончательном виде отпечатан только 15 сентября, тогда же подан в Петербургский цензурный комитет, но не был даже в таком виде одобрен «день в день», что было обычной практикой, а задержался на день, и билет на выпуск номера в свет был подписан цензором только 16 сентября[65]. То есть в результате всех этих проволочек подписчики получили «Русский Мир» более чем на две недели позднее номинальной даты, что для газеты, каковой формально являлось издание, явление совершенно исключительное.
Мы можем назвать и имя цензора, который был причастен к первой публикации «Записок из Мертвого дома», – это Ф. И. Рахманинов (имени которого мы не найдем ни в истории издания «Записок из Мертвого дома», ни даже в «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского»).
А. С. Гиероглифову в значительной степени не повезло с цензором, который оказался приставлен к «Русскому Миру»: Федор Иванович Рахманинов (1825–1880), в отличие от многих других цензоров, чье участие в судьбах произведений Ф. М. Достоевского не было столь деструктивным, по-видимому сыграл не последнюю роль в прекращении печатания «Записок из Мертвого дома» в «Русском Мире». Выпускник Московского университета, юрист, начинавший чиновником Петербургской уголовной палаты, затем служивший в канцелярии губернатора, в 1851 году перешедший в департамент Министерства юстиции, был назначен цензором Петербургского цензурного комитета только 15 января 1860 года[66]. И если до него «Русский Мир» вел цензор А. К. Ярославцев (1809–1884)[67], то начиная с 5 февраля 1860 года это издание переходит под контроль Ф. И. Рахманинова; причем Петербургский цензурный комитет, по-видимому, был поначалу даже доволен таким надзором, потому что в марте к Ф. И. Рахманинову от В. Н. Бекетова переходит и более сложный в политическом смысле печатный орган – журнал «Современник»[68].
Вероятно, если бы Ф. И. Рахманинов имел больший опыт цензурирования, то он не был бы настолько осторожен, но, повторимся, «Русскому Миру» с новым цензором не повезло. Так что никакого «беспрепятственного прохождения через цензуру» у начала «Записок из Мертвого дома» не было и в помине. А поскольку такие опоздания к читателям могли попросту разорить издание, то печатание «Записок» было в 1860 году А. С. Гиероглифовым приостановлено, а возобновлено только с нового, 1861 года. Тому была и еще одна причина – резонанс от появления на свет «Записок» позволил редактору надеяться, что перенесение в новый год их продолжения приведет к увеличению числа подписчиков. Кроме того, мы предполагаем, что время было использовано А. С. Гиероглифовым и на то, чтобы цензор заранее просматривал и приводил в соответствие с представляемыми им нормами текст глав, которые планировались к напечатанию. Отчасти это доказывается тем, что цензурное разрешение на повторное издание введения, первой и второй глав «Записок из Мертвого дома» (собственно, первого номера «Русского Мира» 1861 года целиком) было получено от Ф. И. Рахманинова еще 6 ноября 1860 года[69]. Впрочем, и это также не сильно помогло, потому что Ф. И. Рахманинов из предосторожности предпочитал не подписывать сам, а в согласии с практикой деятельности цензуры представлял сомнительные с его точки зрения сочинения на рассмотрение цензурного комитета.
Как мы сказали, «Русский Мир», приступив заново к печатанию «Записок из Мертвого дома», повторил в первом номере за 1861 год введение и главу I, а также поместив главу II. Но и этот номер, который номинально был датирован 4 января 1861 года, также задержался: он поступил в Петербургский цензурный комитет только 9 января, и Ф. И. Рахманинов в тот же день выписал билет на выход[70] – то есть с того момента, как в ноябре была одобрена рукопись, вторая глава претерпела какие-то изменения в соответствии с пожеланиями цензуры. Глава III была пропущена цензурой 10 января (напечатана в № 3 от 11 января), этот номер вышел уже со сравнительно небольшой задержкой – он был отпечатан 13 января, и в тот же день Ф. И. Рахманинов выписал билет на выход в свет[71]. Тогда же А. С. Гиероглифов просит писателя прислать обещанную IV главу. Однако цензурные сложности приводят к тому, что публикация «Записок из Мертвого дома» прекратилась на IV главе в № 7 (25 января 1861-го, цензурное разрешение от 24 января[72]), который вышел в свет с недельной задержкой – только 30 января он был отпечатан, и в тот же день Ф. И. Рахманинов выписал билет[73]. Исходя из того, что на полосе 132 этого номера имеется колонтитул «№ 6», мы можем предположить, что здесь не просто опечатка, а след от переверстки: публикация планировалась в предыдущем номере (21 января 1861-го, цензурное разрешение от 20 января; в свет вышел с опозданием – 26 января[74]), но цензор Ф. И. Рахманинов, как уже ясно, подолгу не подписывал к печати номер.
Здесь отметим, что этот цензор настолько затруднил работу журналов, что постепенно он лишился доверенных ему цензурным комитетом повременных изданий – начиная с январской книжки 1861 года «Современник» вернулся к В. Н. Бекетову, а в мае 1861 года и «Русский Мир» будет передан другому цензору – Е. Е. Волкову[75]. Сам же Ф. И. Рахманинов был переведен в Московский цензурный комитет и там проявлял свою строгость; нелишне процитировать слова Л. Н. Толстого, который прочувствовал этого цензора, издавая в 1862 году журнал «Ясная Поляна»:
1-го сентября. Утро работал – вяло. Голова болела гимороидально. К Рахманинову. Всю желчь поднял. Не пропущена 1-я статья. Надо вдвое работать новую[76].
Хотя Ф. И. Рахманинов оказался ощутимым препятствием для публикации «Записок из Мертвого дома» в «Русском Мире», окончание печатания сочинения в газете произошло и по формальным обстоятельствам: Ф. М. Достоевский счел гонорар в 700 рублей серебром отработанным. По-видимому, это решение писателя было принято А. С. Гиероглифовым сочувственно: продолжение издания «Записок из Мертвого дома» было для него чревато конфликтом с Ф. Т. Стелловским. Ситуация с преодолением «Русским Миром» цензурных трудностей оказывалась для их предприятия критичной: цензурные придирки, будучи рутиной для ежемесячных журналов, становились крайне болезненными для газеты, которая должна была поспевать к конкретной дате и обычно получала разрешение накануне выхода в свет, а печаталась тоже накануне – вечером или даже в ночь.
Имелась и другая, не менее значительная причина: «Записки из Мертвого дома» были важны Ф. М. Достоевскому для начатого одновременно с их изданием журнала М. М. Достоевского «Время». Еще 6 сентября 1860 года последним было представлено в цензуру и одобрено цензором А. К. Ярославцевым «Объявление о журнале „Время“ от г. Достоевского»[77], текст которого был в значительной мере написан Ф. М. Достоевским[78], и с 1861 года этот журнал начал выходить в свет.
И хотя впоследствии, 3 мая 1861 года, А. С. Гиероглифов поместил в «Русском Мире» объявление, что после публикации во «Времени» сочинение появится и на его страницах, Ф. М. Достоевский отправил письма в редакции петербургских газет со словами, что с «Русским Миром» не состоит «более ни в каких литературных сношениях», а текст произведения окончательно передан «Времени» и всякое продолжение «может явиться только в этом журнале»[79].
Что касается собственно Ф. Т. Стелловского, то с ним, по-видимому, Ф. М. Достоевский в то время дела не имел вовсе: газету вел А. С. Гиероглифов единолично; впрочем, впоследствии Ф. М. Достоевский сможет почувствовать на себе железную хватку этого известного музыкального издателя. Однако еще ранее на сотрудничестве с Ф. Т. Стелловским обжегся сам А. С. Гиероглифов, о чем мы вкратце расскажем, поскольку это важно не только для истории «Русского Мира» и для характеристики его соиздателей, но и для понимания того, каков был будущий издатель первого Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского купец 2-й гильдии Ф. Т. Стелловский.
А. С. Гиероглифов успешно издавал «Русский Мир» и с началом 1862 года не только заменил музыкальное приложение (издаваемое Ф. Т. Стелловским, лишь удорожавшее издание и отпугивавшее подписчиков) на сатирический листок с карикатурами «Гудок» (цензурный комитет формально произвел объединение двух изданий в одну редакцию, действовавшую на прежних основаниях контракта А. С. Гиероглифова и Ф. Т. Стелловского), но и перевел печать в другую типографию, которую арендовал сам ради этого предприятия, поскольку Ф. Т. Стелловский постоянно завышал типографские расходы и тем самым уменьшал долю прибыли, которая делилась поровну между Ф. Т. Стелловским и А. С. Гиероглифовым. Эти действия А. С. Гиероглифова хотя и улучшили материальное положение издания, однако оказались болезненными для фактического владельца издания – Ф. Т. Стелловского, человека крайне расчетливого.
В конце 1862 года разразился публичный скандал: А. С. Гиероглифов, обладавший довольно горячим нравом (см. Приложение 4), обвинил компаньона в присвоении денег иногородних подписчиков «Русского Мира» и разместил прокламацию об этом в петербургских газетах, в том числе и в самом «Русском Мире»[80]. Ф. Т. Стелловский решил немедленно отстранить А. С. Гиероглифова от должности редактора издания, почему 19 декабря 1862 года и подал в Петербургский цензурный комитет прошение, в котором просил утвердить В. В. Крестовского вместо А. С. Гиероглифова[81], что нарушало положения контракта от 1 августа 1860 года о покупке купцом прав на «Русский Мир». Последнее не давало возможности цензурному комитету утвердить смену редактора, и комитет занял нейтральное положение, ожидая либо судебного решения спора, либо, что явно могло произойти быстрее, примирения. (М. К. Лемке считал, что первопричиной конфликта была недостаточная подписка на «Русский Мир», что развязывало руки Ф. Т. Стелловскому для смены редактора[82].) Оба участника продолжали отягощать цензурный комитет своими прошениями: А. С. Гиероглифов желал продолжать издание (он даже выпустил на свои средства один номер от 5 января 1863 года), а Ф. Т. Стелловский потребовал приостановить выдачу цензурных разрешений на оба издания. Ответ спорщикам был дан 9 января 1863 года, причем вышестоящей инстанцией – министром народного просвещения А. В. Головниным, – что говорит о серьезности разразившегося скандала: «Продолжение издания „Русский Мир“ и „Гудок“ до окончательного разрешения их спора может быть допущено не иначе как только по взаимному их между собою соглашению»[83]. Соглашения между компаньонами достигнуто не было, и «Русский Мир» прекратил существование. Н. А. Лейкин, который также был привлечен к изданию А. С. Гиероглифовым, резюмировал это в своих воспоминаниях:
Маленькие журналы тогда возникали быстро, приостанавливались, переходили из рук в руки и так же быстро погибали в новых руках. Издатели почему-то думали, что начать издавать журнал можно без затраты, что подписчики на него тотчас так и посыплются, и журнал сейчас же будет окупать себя, но на деле это было не так. Стелловский, наживший на нотах, сунулся в журналистику и книгоиздательство и, тотчас же потерпев убытки в «Русском Мире», прекратил его[84].
Глава III
Ф. М. Достоевский и цензура
Разговор о печатных источниках текстов Ф. М. Достоевского невозможен без обращения к материалам цензуры – настолько всеобъемлющей была ее власть над литературой в XIX столетии: любое слово могло превратиться в печатное только с ведома цензуры как государственного учреждения и при участии конкретного цензора как орудия этого учреждения.