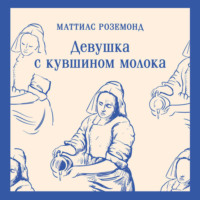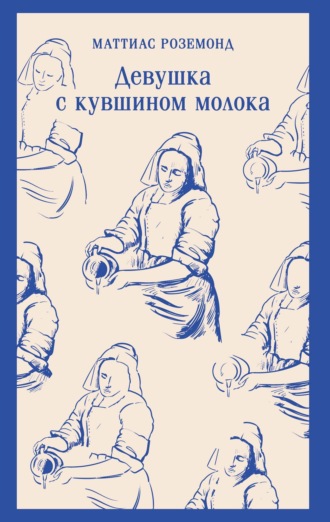
Полная версия
Девушка с кувшином молока
Мы с Яном остановились.
Парни нас окружили, и один из них заявил таким оскорбленным тоном, как будто его лично это задело:
– Гляди-ка, наш петушок Янус гуляет с католической курочкой!
Ян не выпустил моей руки.
– Ты, значит, глаз на нее положил? – вступил другой, не оставаться же в стороне. – И что, уже поразвлекся?
– Нет, – честно ответил Ян.
Я не знала, куда и глаза девать.
– А тебе бы хотелось? Признавайся! Или стесняешься исповедаться в своих желаниях?
– Ему нельзя на исповедь, – заорал третий, – пока его святой водой не окропили! Тем более в таких важных желаниях!
– Сдается мне, я знаю, что делать, – обрадовался первый. – Водичка в делфтских каналах уж так хороша, все пивовары одобряют!
Они загалдели, перекрикивая друг друга.
– Покажешь ей, на что способен? – Самый здоровый из них схватил Яна за грудки.
– Можно мы просто пойдем по своим делам? – Ян старался говорить спокойно, но я услышала, что голос у него слегка дрогнул.
Я так перепугалась, чуть сердце не остановилось. Неужели ему придется с ними драться? Разве он управится с такими здоровяками!
Не успела я глазом моргнуть, как один из задир присел на корточки позади Яна и подтолкнул его под колени. Ужасно подло! Конечно, Ян не удержался на ногах и сильно расшибся. Я закричала, но они меня не слушали, ухватили его за руки и за ноги, вопя, что его надо окропить святой водой и отправить на исповедь.
Если бы не директор латинской школы, случайно проходивший мимо, – а кто-то из задир наверняка там учился, иначе бы они ни за что не послушали, – Яна точно искупали бы в канале. Задиры умчались, а Ян, весь красный от стыда, поднялся на ноги, нахлобучил шляпу и отряхнул песок со штанов. Мы оказались ровно на этом же месте, где я стою сейчас.
– Проводить тебя домой? – спросил он.
Я кивнула, но стоило нам зайти в католический квартал, сказала, что дальше дойду сама. Конечно, мы бродили здесь тысячу раз, но теперь я боялась, что история повторится и на этот раз презрением обольют меня.
Мы решили, что браться за руки будем только за городом.
Все, кажется, дождь закончился. Побегу я поскорее обратно на рынок, пока все покупатели разошлись, как раз успею быстро заказать к обеду селедку и скумбрию.
6. Ян
Люди называют меня упрямцем – это их право. Однако, поверь мне, все совсем наоборот. Я всего лишь добровольный раб красоты. Это моя пагубная страсть, моя радость и единственное право на существование, крест, на котором я распят. Если бы не стал художником, шатался бы без цели по миру или давно гнил под могильным камнем.
Не печалься, ведь я считаю себя избранным. Всего-то нужно перенести на холст ту красоту, которую видят глаза. Как эстету мне повезло жениться на самой красивой женщине Делфта, посему я имею право беззастенчиво любоваться ей, когда мне вздумается, – ее прекрасным телом от щиколоток до вишневых губ. Хотя нет, бери выше, ведь стоит ей снять свой чепец – на плечи льется водопад медовых локонов. Если бы можно было созерцать всю эту прелесть одному! Впрочем, это болезненная тема, не стану ее затрагивать.
Не говори, что я на тебе зациклился. Меня точно так же занимает и роса на паутинке, и лучи солнца в кронах деревьев, и свет, падающий в комнату через решетчатое окошко, и ржавые прутья забора, и неровная каменная кладка на фасаде, и кот-хвост-трубой, набросившийся на рыбные объедки, и задорный смех сиротки, жалкого, но в то же время счастливого, потому что занят любимым делом, и запах свежевыпеченного хлеба. Короче говоря, своей кистью мне хочется прикоснуться к самой жизни ровно так же, как свет касается каждой виноградинки на блюде.
Я благословлен.
Иногда стоит выглянуть в окно – и мир принадлежит мне. Дождь закончился, и в лужах отражаются серые краски неба. Через час от луж останется один блеск, а еще через час разве что бесцветные пятна на мостовой, и ни один смертный не обратит на них внимания. Люди понятия не имеют, что пропускают, – снова бегут по делам, прерванным непогодой, торопятся, один веселый, другой хмурый, как будто пытаются нагнать что-то очень важное. Вспомнят ли жители Делфта вечером, куда спешили утром? Цена, которую они платят, высока: торопыгам некогда наблюдать жизнь.
Наша, художников, задача – замедлить спешку, остановить время и увековечить мгновение.
Слышу, кто-то поднимается по лестнице. Походка у гостя не разболтанная, которую мне чаще всего доводится здесь слышать, а размеренная и достопочтенная. В такт шагам постукивает трость. Оборачиваюсь на скрип распахнувшейся двери.
– Господин Ван Рейвен! – удивленно восклицаю я. – Кто вас… В смысле проходите, пожалуйста!
– Благодарю, благодарю.
Без долгих разговоров он впивается взглядом в портрет Кат.
– Глядите-ка, господин Вермеер взял быка за рога!
Он подходит поближе и что-то неразборчиво бормочет себе в усы, подергивая их пальцами.
Пользуюсь возможностью за его спиной незаметно заправить в брюки рубашку, убрать со стола тарелку с хлебными крошками и быстро взглянуть на себя в зеркало: кудри стоят дыбом как никогда прежде, на мне нет ни воротничка, ни шляпы. Что ж, растрепанный вид может сыграть художнику на руку. Деятель искусства, как-никак.
– Я хотел напомнить, что ты обещал зайти ко мне с первой же новой работой. Сегодня мне выпала честь выступать в ратуше, вот и решил заодно и к тебе наведаться.
– Прошу меня простить, – отвешиваю полупоклон. – У меня было столько дел, и я хотел увериться…
– Много дел? Из окошка смотреть, не иначе? – Господин Ван Рейвен говорит всегда весело, со смешком. Его сдержанный оптимизм ненамеренно гармонирует с поросячьими глазками и румяными мясистыми щеками. Тому, кто дрейфует по жизни в таком виде и все же сохраняет бодрость духа, несомненно, покорятся все моря.
Ван Рейвен покачивается с пятки на носок перед мольбертом, сам не замечая, как сильно выпячивает живот.
– Ну что, готова твоя Катарина?
– Откуда вы… Вообще я хотел еще поработать со светом, отдать ему ведущую роль, только пока что не пойму, как это сделать…
– Помнится мне, ты еще летом начал. Когда мы там в последний раз виделись?
– Кажется, в июне… Да, точно. У вашего брата, нотариуса.
Ван Рейвен выпячивает нижнюю губу.
– Не хочу давать непрошеных советов, но тебе бы стоило поднять производительность и хотя бы со сменой сезона приниматься за что-то новое. Помнится, ты говорил, что тебе семью содержать надо.
– Я так и планирую. Между прочим, я принял ваш совет с глубокой благодарностью. Смотрите, свет падает сбоку и сзади, красиво подсвечивая ее воротник, не находите? Конечно, свет не может падать ей на лицо, иначе она проснется. Мне кажется, я сумел создать нужную атмосферу, хотя еще не уверен насчет баланса. Необходим последний акцент. А вот дверь позади Кат… То есть Катарины, моей супруги… Дверью я доволен. Помните, вы мне сказали, что моя предыдущая картина была слегка темновата?
– Бордельная сцена? Темновата – это еще полбеды, там дело посерьезнее.
Ох, вот теперь я задет за живое. Я-то думал, что говорю с истинным ценителем, который способен по-настоящему судить об искусстве. Раньше он хвалил меня за технику, за простоту композиции вместо того, чтобы выть вместе с волками о попранной морали. Лучше перевести тему, не хочу продолжать этот спор.
– Во всяком случае, в этой работе свет занимает все пространство.
– Я вижу улучшения, это бесспорно, но гордиться еще рано, молодой человек. – Ван Рейвен неодобрительно фыркает.
Съеденный хлеб камнем твердеет в моем животе, и все же я не отступаю:
– Вы же просили добавить света.
– Разумеется. Нет, работа довольно приличная, и техника на высоте. А уж стесняться красоты своей супруги тебе точно не стоит. Я тут на днях с ней словом перемолвился – очаровательное личико, глаз не отвести. И все-таки тебе еще есть над чем поработать. Ничего, если я так прямо говорю? – Ван Рейвен задумчиво хмурится. – По-моему, ты ее прямо здесь за этим столиком и писал, верно? Вот только стул…
– Стул и скатерть я втихаря позаимствовал у семейства Тинс, чтобы слегка придать лоску. У нас таких вещей не водится.
Господин Ван Рейвен снова жизнерадостно хмыкает и поворачивается ко мне.
– Я же о чем и говорю! Не проще было бы поставить свой мольберт там? Твоя теща без ума от искусства, и места на Ауде-Лангендайк достаточно, у них камин в каждой комнате. Из этого, извини за выражение, борделя мир не покорить. Меня тут одна дама нарочно подтолкнула, за клиента приняла, ха-ха! Нет, господин Вермеер, если серьезно относишься к делу, пакуй поскорее вещички. Или правду слухи говорят, что ты с госпожой Тинс повздорил?
– Нет, я не… Хорошо, я подумаю.
– Давай, давай. И в следующий раз пиши окно, поверь, вся работа сразу по-другому заиграет, а то на этом полотне как будто дышать нечем, и столько красного.
– Вы еще упоминали, что мне стоит оживить композицию.
– Гм, нет, здесь все красиво, покой и тишина. Оставь, в прошлый раз ты уж достаточно оживил.
Наливаю гостю бокал вина, он принимает его с благодарностью. А шляпу снять так и не удосужился.
– В прошлый раз вы сказали…
Он отступает своими короткими ножками на пару шагов назад, словно самому любопытно, что будет дальше.
– …что мне стоит попробовать написать вещицу в стиле господина Фабрициуса.
– Правда, я так сказал? Отличный совет! – Ван Рейвен охотно смеется собственной шутке. – Смотри только не пересоли. Напиши окошко, ускорь темп и добавь больше света. Ты же не хочешь, чтобы зритель оказался в какой-нибудь затхлой дыре вроде той, куда я ради тебя сейчас забрел? Ну да ладно, к чему это я веду? Напишешь для меня пару подобных портретов? Тем самым позабудем прошлые грешки, так сказать.
– За прошлую работу я получил пятнадцать гульденов.
Я тут же пожалел, что об этом сказал. Любой из делфтских художников отсоветовал бы мне заговаривать с господином Ван Рейвеном о деньгах, он этого не любит.
– Пятнадцать? Не слишком-то щедро.
Втихомолку с ним соглашаюсь.
Мой заказчик снова поворачивается к портрету.
– Да, картина очень приличная, определенно хочется побольше работ в таком духе. Если сделаешь, как я прошу, только в этот раз по-настоящему, и напишешь мне два похожих портрета месяцев, скажем, за восемь, то я готов заплатить тебе вперед. Человеку ведь надо на что-то жить, верно?
Даже не знаю, что на это ответить. Нужно ли поклониться или заговорить о сумме? Нет-нет, лучше не надо. Ох, я готов бегом бежать через площадь с радостной вестью: «Кат, у нас наконец-то появятся деньги!»
Не стой истуканом, пора заговорить. Отвечай спокойно, но с воодушевлением. Что же сказать?
– Что ж, могу согласиться с предложенными…
– И, разумеется, в синих тонах! – перебивает меня Ван Рейвен, сопровождая свои слова энергичным ударом трости. – Сдается мне, что синий сильно недооценивают, особенно в Амстердаме и Гарлеме. Утрехт в этом отношении ушел гораздо дальше. Настало время Делфта заявить о себе.
Синий! Легко сказать! Известно ли ему, сколько стоит лазурит? Ладно, может, проблема разрешится сама собой, дай ему назвать сумму. Спокойствие и терпение!
– От синего настроение улучшается. Посмотри сам! Весь этот красный только душит. Такое ощущение, что у твоей Катарины жар! Ее становится жаль, а твоя задача как художника – поднять зрителю настроение. Он должен чувствовать себя частью чего-то настоящего. Понимаешь, к чему я клоню?
Понимаю, еще бы. Как же я, идиот, сам не догадался об этом сказать.
– В глубине как таковой нет ничего плохого, особенно по сравнению с твоей предыдущей поделкой – там персонажи толпятся у зрителя прямо перед носом, – только здесь тоже все слишком ненатурально: открытая дверь, к примеру. Разве кто-то уснет на таком сквозняке? Ха-ха! Сделай тона прозрачнее, живее, используй меньше деталей, а то этот дом словно набит гадкими секретами, от которых его обитателям нехорошо. Думаешь, люди станут торопиться, чтобы на такое посмотреть?
Сумма, господин Ван Рейвен, назовите сумму!
Заказчик подходит к зеркалу и оправляет фетровую шляпу.
– Ну да ладно, думаю, главное я сказал.
У самой двери он оборачивается.
– Кстати, кто подкинул тебе идею написать ту скабрезную картинку?
Задумчиво потираю щетину на подбородке.
– В доме у тещи тоже висит картина под названием «Сводня», и я подумал…
– А, ты имеешь в виду картину господина Ван Бабюрена? Вот только он не стал изображать на ней гриф лютни, напоминающий фаллос!
– Это была цитра, господин Ван Рейвен.
– Лютня, цитра – неважно! Главное, что ты этот гриф собственной рукой обхватил и сидишь довольный! Это же надо додуматься – вашу папскую семейную вакханалию на холст перенести… Смело, молодой человек, смело! Что ж, полагаю, что ты усвоил урок. Картину-то продал в конце концов?
– Да, пекарю за пятнадцать гульденов.
– За пятнадцать? Ах да, точно. На эти деньги семью содержать не получится, верно я говорю? Ладно, пойду. Если что, отправляй ко мне посыльного, когда будет что показать. К тому времени подпишем все бумаги. Доброго дня!
Сажусь, чтобы отдышаться, – вроде бы получается. Жаль, что Ван Рейвен взялся меня отчитывать. На моей картине изображено, по большому счету, все ровно то же самое, что у Ван Бабюрена, разве что я придал сцене более легкомысленный оттенок. Наверно, подобную работу смогут оценить по достоинству, только когда я сделаю себе имя.
Подумать только, что теща когда-то ставила треклятого Ван Бабюрена мне в пример! «Когда научишься так же виртуозно владеть кистью, дорогой Ян, тогда и поговорим!» До сих пор помню, с каким ядом она цедила «дорогой». Явно не верила, что это время настанет.
Та картина сначала висела в прихожей, так что все визитеры столько охали да ахали, потому она велела перевесить ее над буфетом в гостиной – подальше от глаз. И тем не менее там ровно то же самое: девица, клиент, сводня. Полотно называют жемчужиной традиционной голландской жанровой сцены, соответствующей высокой морали, в то время как мою картину назвали скабрезной и смешали с грязью. Собратья по цеху, которые раньше приветствовали меня на улице, теперь отворачиваются. Знать злобно перешептывается, едва меня завидев. Что ж, Делфту нужен козел отпущения, к тому же новоявленный католик.
Интересно, случайно ли вышло, что я копировал именно ту картину в день, когда встретил Кат впервые после нашего короткого знакомства на льду? Дело было мрачным субботним утром в сырой мастерской господина Брамера на Коорнмаркт. Встреча не была такой уж неожиданной, потому что, после того как она привязала мне конек, я кое-что разузнал о семействе Тинс. Они собирали искусство и были католиками, как Брамер. В Делфте католиков наперечет, так что я заранее осведомился у художника, знаком ли он с этим семейством. Выяснилось, что знаком.
Мастерскую Брамера я вспоминаю с неохотой. Там стояла такая вонь, причем я не мог сообразить, от чего именно. Не иначе как где-то под половицей крыса издохла, а сам Брамер с его постоянной простудой давно нюх потерял и ничего не замечал, хотя запах перебивал даже привычные ароматы скипидара и лака.
Насколько мне помнится, Мария Тинс зашла забрать заказ, и Брамер обратил ее внимание на то, что мы работаем над утрехтским полотном. Мы – это трое прилежных учеников, что занимались у него по субботам. Мы должны были воспроизвести все в мельчайших деталях. Для меня до сих пор остается загадкой, почему Брамер выбрал именно ту картину в качестве образца. В те времена она ничего для меня не значила, да и с чего бы? Моей задачей было повторить мазок за мазком, цвет за цветом, а все остальное – дело десятое. Мы впервые использовали синий, и у меня просто дух захватывало. Даже если бы меня спросили, я бы вряд ли ответил, что именно там изображено. Девушка играла на лютне, но голова ее была занята явно не музыкой, вот и все, что я мог бы сказать. Старуху, на мой взгляд, можно было и не писать, слишком она страшная. Ей платили монету, но за что – я понятия не имел. Стоит сказать, что в те времена мой отец был еще жив и «Мехелен» являлся вполне приличной гостиницей.
– Вы только посмотрите на ее позу, – восхищался Брамер, брызгая слюной. – Вы только посмотрите, как меняется цвет! – Будто слов было недостаточно, он повторял позу и тыкал пальцами во все достойные внимания детали одновременно. Учитель так отчаянно к нам взывал, что мы совсем растерялись, куда смотреть – на него или на картину.
Вскоре я наверстал упущенное – сошелся с парнями, которые живо объяснили мне, чем продажные девицы зарабатывают на жизнь. Они водили меня переулками, где девушки стояли полураздетыми, словно на улице лето. Мужчины, сунув руки в карманы, прогуливались мимо них с таким видом, будто забрели туда случайно. Мы подзуживали друг друга: смотри, смотри, еще один зашел! Поспешно хлопала дверь. До меня стало доходить, что происходит между мужчиной и женщиной. Гораздо позже – по этому случаю я даже купил малиновый берет, – когда я зашел к Кат и заново рассмотрел полотно, я понял, что многое упустил в годы невинной юности. Трудно было охватить разумом, что Брамер написал нечто столь сомнительное на пути к вершинам мастерства. Помнится, парнишка по имени Крайн, который вместе со мной посещал уроки, предположил, что Марию Тинс гораздо больше интересовал сам Брамер, чем все его полотна, вместе взятые. Тогда я содрогнулся от отвращения и поспешил забыть эти слова. Уже в те годы Мария Тинс представлялась мне старой ведьмой, точь-в-точь такой же, как и на полотне Ван Бабюрена.
В любом случае теща меня очень разочаровала. В голове не укладывалось, что строгая католичка, которой ее считают, – а ведь половина Делфта уверена, что она день-деньской только и делает, что отгоняет грехи от порога, размахивая крестом и чесноком, – повесила такую сомнительную картину между образами святых и Девы Марии, словно приглашала в гости дьявола.
Когда Кат услышала, как я ворчу, возразила, что картину следует воспринимать как предупреждение. Как по мне, весьма сомнительно, почему тогда столько похоти на лицах и почему груди девушки так и норовят выскользнуть из платья?
Я парировал, что в этом случае лучше было бы повесить на стену пару библейских виршей, – вышло бы куда доходчивее. Кат промолчала. В то время наши отношения еще находились на том этапе, когда она избегала со мной спорить. Я не то чтобы нарочно искал, к чему прицепиться, просто пытался выяснить, почему она считает, что католицизм – более чистая религия. Вспоминая те дни сейчас, прихожу к выводу, что лучшими нашими с ней минутами были те, когда мы оба умолкали после пикировки. Например, когда лежали на мшистой земле, глядя вверх, и ветви деревьев покачивались на ветру над нами, и ничего нам было не нужно, только этот ветер, этот вид и легкое касание рук.
По злой иронии судьбы, стоило Кат переехать ко мне, как моя мать, чтобы свести концы с концами, согласилась закрыть глаза и отдать комнаты на верхних этажах как раз под те самые услуги, против которых предостерегал господин Ван Бабюрен.
Конечно, возлагать вину на утрехтского живописца было бы чересчур, однако думаю, что без его влияния мысль написать собственную сцену из жизни борделя даже не пришла бы мне в голову.
Возвращаясь к той субботе: за окном кружил снег, работа была окончена, и настало время разбора полетов – у кого видны мазки, кому удалось сделать позу более естественной, кто лучше всех воспроизвел цвета, кому удалось заставить работать тени. Неожиданно я услышал позади знакомый высокий голос – та девушка, которая помогла мне на катке, которую я по утрам порой видел на рынке, которая по четвергам ходила за покупками вместе с матерью, которую мои глаза всегда искали повсюду и которая являлась ко мне в снах с таким блестящим взглядом, словно у нее начинался жар. Моя девушка!
Однажды я встал в очереди за мясом прямо позади нее. Я надеялся, что она меня заметит, и слегка выпятил грудь, но, вместо того чтобы разглядывать других покупателей, она вдруг нырнула носом в свою корзину, словно испугалась, что оставила кошелек дома. Это сыграло бы мне на руку и дало возможность ее выручить, но, к сожалению, она уже отыскала кошелек и даже тихонько посмеялась над собой.
Теперь-то уж она должна была меня заметить! Девушка отошла от матери и направилась к нам с таким видом, словно скребки и кисти завладели всем ее вниманием.
Еще не растаявшие снежинки кокетливо украшали ее накидку с капюшоном, растаяло только лишь мое сердце при виде ее румяных щек, и, что еще прекраснее, она смотрела только на меня и больше ни на кого. Ее синие глаза встретились с моими.
Что я сделал, чтобы заслужить такой теплый, искренний интерес? Может, Брамер упомянул, что высоко ценит мой талант? Честно говоря, я не то чтобы писал лучше двух других парней, но был усидчивей и не отвлекался по мелочам.
Кат молчала, что было словно частью священного момента глубокого узнавания. Молчал и я, но больше потому, что у меня в те времена голос ломался и часто подводил почем зря. Однако не буду пенять на голос, ибо на ее игривую улыбку я тоже не ответил. Помнится, она заложила руки за спину и слегка сменила направление, что только усилило мою неловкость. Я вдруг понял, что мои щеки тоже пылают, как и у нее, – тут Крайн ткнул меня локтем, и я поспешно схватился за скребок.
Когда она ушла, я клял себя на чем свет стоит за свою застенчивость. Я ведь мог показать ей свою работу и мастерскую, спросить, какая из трех копий ей больше нравится, отпустить комплимент… чему угодно! Все лучше, чем хвататься за скребок.
Когда двое других ушли, я снова пристал к учителю с расспросами о владелице оригинального Ван Бабюрена. По мере его рассказа меня бросало то в жар, то в холод. Может, Мария Тинс и не обладала ангельским голоском, как у дочери, зато владела пятью оригиналами Ван Бабюрена и одним Тер Борхом, и все они висели в том большом доме на Ауде-Лангендайк. Боже милостивый, вот это роскошь! Да еще и такая прелестная дочь в придачу!
Короче говоря, причин набралось достаточно, чтобы столкнуться с Кат на улице двумя днями позже и, изобразив удивление, приподнять шляпу в знак приветствия. Когда мы стояли друг напротив друга, я заметил, что больше не отстаю в росте – я стал выше на полголовы.
7. Таннеке
По понедельникам мы затеваем стирку с утра пораньше, сразу после завтрака. В первые два года моей службы я управлялась со всем сама, но потихоньку дел накапливалось все больше и больше. Теперь мы делим работу с новой служанкой по имени Катья: она носит воду, я нагреваю. Затем Катья стирает белье в корыте и крахмалит лен. Остальное на мне: пропустить через валики для отжима, развесить, позже снять и во вторник погладить. Складываем белье мы с ней на пару, и летом носим отбеливать на поля тоже вместе.
Мне больше нравится отжимать белье во дворе – вода сама утекает прочь, – но сегодня накрапывает противный мелкий дождь, поэтому приходится идти в прачечную в подвале. Развешу белье тоже здесь. Наверняка до завтра оно высохнуть не успеет – в комнате слишком сыро, – поэтому гладить завтра будет нечего. Ну что ж, одной заботой меньше.
В общем, занимаюсь я своим делом, и вдруг передо мной возникает Ян. Я даже пугаюсь, потому что не пойму, откуда он взялся. Должно быть, проскользнул в ворота, только вот плаща на нем нет. Неужели вошел в парадную дверь? Ну и чудеса!
– Кого ищете? – осведомляюсь я, но он не отвечает. Становится у двери, теребит ручку, которая и вправду слегка разболталась, переводит глаза на меня, а я возвращаюсь к своим занятиям. С языка так и рвется вопрос, неужели ему самому заняться нечем? Вообще-то, на нем балахон, в котором он пишет.
– Мария Тинс прилегла отдохнуть после обеда, не переживай.
Как будто меня это заботит.
– Ей известно, что вы пришли? – интересуюсь я на всякий случай.
В прошлом году Мария Тинс запретила ему появляться на пороге – единственный достойный ответ на его хамское поведение, – да только вот не сказать, чтобы запрет строго соблюдался. Хозяйке прекрасно известно, что Катарина пускает его в дом, но сама она старательно избегает встреч.
Ян качает головой.
– Раз уж пришли, идите в переднюю, Катарина там вместе с девочками. Наверняка ей помощь не помешает.
– Все хорошо, Кат наверху пеленает малышку.
– А где маленькая Мария?
– Уже одета. Если хочешь знать, полчаса назад я встретил их на улице. Между прочим, я уже давно обещал Марии поиграть с ней в прятки, вот и прячусь. Чур, меня не выдавать. Как думаешь, отыщет она меня здесь, Таннеке?
– Не знаю.
Он приоткрывает дверь и прислушивается. Стоит мне вернуться к своему делу и крутануть ручку, он тут как тут. Подходит ближе.
– Знаешь, Таннеке, мне ночью такой странный сон приснился!
– Какой еще сон, хозяин?
– Такой, в котором я писал с тебя картину. Что ты на это скажешь?