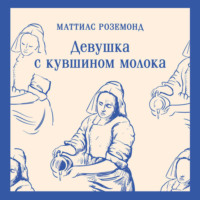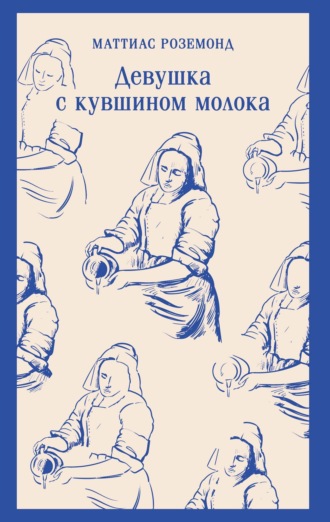
Полная версия
Девушка с кувшином молока
Досадно, конечно. Если оставлю картину себе, если не продам задорого, весь Делфт запишет меня в неудачники. Может, они и правы… Нет уж, я не сдамся! Вы обо мне еще услышите.
Кат, ты простишь меня? Придется отдать тебя незнакомцу. Другого выхода нет, сама понимаешь, иначе другая Кат, что живет в двух шагах отсюда, расстроится.
Где бы ты ни была, я никогда тебя не забуду, потому что именно ты помогла все уладить. Если продам тебя по хорошей цене, то и следующие работы раскупят. Уж мы об этом позаботимся. Я знаю, я предчувствую! Делфт будет рукоплескать от восторга, уж господин Вермеер им покажет!
Спящая Кат молча внимает и соглашается.
Присаживаюсь еще немножко поболтать с двумя Кат, но вскоре устаю. Тем временем солнце скрывается за облаками, и матовый свет, который мне нужен, снова льется в окно. Что ж, теперь я могу двигаться дальше. Стоит немного оттенить скатерть, да и узор почетче сделать.
Едва погружаюсь в работу, как на лестнице слышатся шаги.
Дверь открывается, и в мастерскую вваливается парень, которого я никогда прежде внизу не видел. Он озирается по сторонам с таким удивленным видом, словно мне следует объясниться.
– Я тут Сьяан ищу, – выпаливает он, оглядев комнату. Шапка набекрень, приспущенные брюки, злобный взгляд – эти парни словно близнецы, похоть придает им сходство. Удивительно, как несимметричные и грубые черты мгновенно вызывают неприязнь.
Откладываю кисть и объясняю, что Сьяан, скорее всего, этажом выше. Мать научила меня никогда не грубить посетителям. «Янус, – так она меня называет, – запомни хорошенько: с каждого гульдена, потраченного ими там, наверху, пять центов идут к нам в карман. И вообще, чем больше мужчин принимает у себя Сьяан и ее подруги, тем больше выручка в трактире». С этим не поспоришь. Мать права. Пока я не заработал ни цента, все заботы на ней.
Выжимаю из себя улыбочку, и парень, закатив глаза, уходит прочь. Надеюсь, теперь он попадет по адресу. Может, мне и стоило бы запереться, но как представлю, что Кат стучит в запертую дверь с малышкой на руках, держа другую за руку, а я ничего не слышу, потому что заткнул уши… При одной мысли мурашки по коже бегут!
Топот на лестнице стих. Тот же самый голос, но приглушенный, теперь доносится сверху. Вынимаю затычки из ушей – мне интересно, о чем они там толкуют.
Говорит в основном Сьяан. Велит парню убираться с глаз долой, кричит, что видеть его не может после прошлого раза. Тот бубнит, что нечего делать из мухи слона. Она отсылает его поискать утешения в другом месте, раз хорошим манерам не выучился.
Громкий стук двери, поворот ключа в замке. Эти двое продолжают препираться через запертую дверь и поносят друг друга на чем свет стоит.
Вновь топот. Похоже, что парень уходит ни с чем. Качаю головой. Ну как вот работать в таких условиях!
Пойду лучше в окошко погляжу.
Смотри-ка, мясник с супружницей куда-то собрались: он опирается на тяжеленную палку, у нее на руке висит пустая корзина. Любопытно зачем? Пустая корзина гораздо интереснее, чем полная, потому как таит в себе кучу возможностей.
Они проходят мимо Мартенсоона, кривоногого старикашки, которого дети до сих пор дразнят гусиным гоготом, хотя с того дня, когда он в последний раз торговал гусями, прошли годы. Старик жмет плечами, словно забыл, по какому делу приплелся на рынок.
Здесь особенная жизнь со своими законами. С противоположной стороны рыночной площади – улица Ауде-Лангендайк, которая тонет в тени большого дома.
До свидания, Кат! Значит, ты не можешь больше жить в этом свинарнике. Вот что выдает твою чувствительную натуру. Ты из другого теста. К тому же на тебе забота о девочках. У вас в доме не живут продажные девицы, что правда, то правда, но найдешь ли ты там покой, которого ищешь? Целыми днями будешь слушать проповеди своей матушки, а если не повезет, то и Виллем заявится и весь дом на уши поставит. Матушка тут не слишком тебе поможет, скажем так.
Но я сделаю тебя счастливой, Кат. Однажды тебе воздастся за твое терпение, и ты станешь такой же беспечной, как и тогда, на льду, в зарослях камыша.
Помнишь, я был еще мальцом лет двенадцати, на целую голову ниже, чем ты сейчас? Я проковылял к берегу, чтобы присесть на вмерзший ствол и привязать конек покрепче. Ты сказала, что у меня ремешок порвался. Я, конечно, и сам это заметил. Ты велела мне постоять спокойно.
Давно уже ты мною не командовала, я даже соскучился. Может, и ты тоже? Тогда еще казалось, что ты рождена для счастья. Ты и сама в это верила, правда?
Ты присела передо мной на корточки и завязала крепкий узелок, соединяя два порванных конца. Поверх плаща ты обмотала красно-синий шарф, который очень тебе шел.
До сих пор чувствую, как крепко ты привязала конек. Я поблагодарил тебя. Белые облачка пара, вырывающиеся у тебя при дыхании, так мило оттеняли румяные щеки, совсем малиновые!
– Ты ведь из того семейства… Того самого? – В последний момент я не осмелился сказать «папских прихвостней».
– Да, из того семейства, где все умеют быстро бегать на коньках, – ответила ты и умчалась вперед, доказывая свои слова.
Я, конечно, пустился вдогонку. Старался изо всех сил, но не был и вполовину столь же искусным конькобежцем. На первом же резком повороте я потерял равновесие и замахал руками, словно мельница крыльями, при этом растеряв всю свою скорость. Ты уверенно неслась вперед, прижав руки к бокам, и ни разу не обернулась, будто давно забыла про меня.
Вдали виднелись башенки Райсвайка. Я понял, что влюблен. Ты заслужила мое уважение.
Тогда я, конечно, понятия не имел, что со мной произошло. Чувство было такое, словно я замерзал, а ты подарила мне теплоту. Я просто поддался тому чувству, не подозревая о его корнях.
Теперь я знаю, чем оно вызвано. Твоя голова покоится на плечах, вызывая в памяти античные бюсты. Античность прослеживается и в твоих чертах, идеально симметричных: прямой нос, легкий изгиб бровей, бледные губы, подчеркивающие легкую грусть во взгляде. С такой грустью в глазах вспоминают о былом счастье. Нет красоты без грусти и грусти без красоты.
Конечно, двенадцатилетний оболтус ничегошеньки об этом не знал. Жизнь не любит раньше времени раскрывать свои тайны. Ты стала воплощением изящества. Твоя красота не умозрительна, она реальна и обладает целительной силой.
Смущаешься, когда я так говорю?
Ох, у меня внутри сплошное беспокойство. Иногда я боюсь, что грудная клетка просто лопнет и оно вырвется наружу. Если что и может меня спасти, так это гармония, отраженная в небе на закате, в лебеди, замершей на воде, или в твоем задумчивом взгляде. Тогда я исполняюсь уверенностью, что для нас двоих еще настанут счастливые дни.
4. Таннеке
Долго не замечаю, что несусь в два раза быстрее обычного. Скорее прочь из этого вертепа на свежий воздух! Задираю голову вверх и дышу во всю грудь.
– Эй, с дороги!
Поспешно шарахаюсь в сторону от повозки, запряженной собаками.
– Смотри, куда прешь, гусыня!
Это Крин, торговец вафлями. Вечно расхваливает свой товар: мол, только что испекли, с пылу с жару, только до меня другая молва доходила.
Огрызаюсь, что мог бы и потише ехать, но больше себе под нос. Все равно Крин глух, как пень.
На башне Новой церкви бьют часы, заглушая привычный гомон, стук кузнечного молота и грохот лошадиных копыт по мостовой.
С одной стороны, мне стало легче, с другой – все-таки жаль Яна: живет так близко от своих любимых и целыми днями одиноко возится с красками в смутной надежде, что когда-нибудь получит воздаяние.
Как бы он ни хорохорился, все равно скоро пожалеет о своем зароке никогда больше не жить под одной крышей с Марией Тинс. Гордость не позволит ему взять свои слова назад после прошлогодней ссоры. Ладно, молчу, я же не знаю, что там у них вышло.
Может, однажды Ян пожалеет, что вообще женился на Катарине. Что ему стоило послушать людей, ведь ему говорили со всех сторон и в первую очередь его собственная семья! Они ведь протестанты. Ради женитьбы ему пришлось пожертвовать и верой, и положением в обществе. Стоила того эта дурацкая детская любовь?
Как-то раз мне довелось услышать, как они ссорились с отцом прямо на улице. То есть это папаша пробирал его почем зря, а Ян слушал с таким видом, будто ему все равно. К тому времени я уже год у Марии Тинс прослужила, так что живо смекнула, о чем разговор. Люди твердили, что Ян своим упрямством отца в могилу свел. Тяжело, конечно, признавать, да только так оно, скорее всего, и было.
Может, Ян до конца не понимал, от чего ему придется отказаться: порвать с семьей и прежним кругом, плясать под чужую дудку, на своей шкуре узнать, что значит быть изгоем. Ладно бы он еще с самого начала был католиком, а тут выходит, будто он предал свою веру. Да уж, сильнее досадить отцу было невозможно. Тот был упертым протестантом и с удовольствием засунул бы всех папских прихвостней из Делфта прямиком в адский котел. Стоило ему углядеть у кого крест на шее, так он плеваться начинал.
Да уж, папаша Яна был тот еще злобный упрямец! И самому же эта твердолобость боком вышла. Ян в пику ему к католикам и подался. Яблочко от яблони недалеко падает – Ян тоже упрямец, разве что не такой сердитый и желчный. Он сам никому своего мнения не навязывает и надеется на такое же отношение, но разве же люди с этим смирятся? Яну до всех этих религиозных распрей дела нет.
Ему уютнее всего в своей раковине, закрылся и делает вид, что весь этот сыр-бор его ни капли не задевает. Катарина все больше впадает в отчаяние, а он с невинным видом заводит свою любимую шарманку, мол, знать ничего не знаю. Ему все попреки как с гуся вода. Чужие ярость и печаль его не трогают. Если загнать его в угол, он промычит что-то насчет господней любви и станет уверять, что постарается. Только вот если спросить, как именно он постарается, – ответа не дождешься. От этого Катарина только сильнее горюет, а Мария Тинс бесится.
Однажды Ян решил, что только Катарина может сделать его счастливым. Разве Папа и весь сонм святых ему помешают? Религия для него все равно что сказки – в конце концов Господь, призываемый спасти и сохранить, у всех один. Хотя, конечно, не так уж ему и плевать, я не раз замечала, с каким обалделым видом он стоит во время мессы в иезуитской церкви.
После смерти супруга мать Яна храбро попыталась воспрепятствовать сговоренной свадьбе. Она появилась на пороге, чтобы поговорить с Катариной. Я-то, конечно, расслышала только обрывки разговора, доносившиеся из прихожей, но было ясно как день, что бедная женщина пришла предупредить Марию Тинс насчет собственного сына. Что тот всегда поступает, как ему вздумается, что он ленив, непредсказуем, не умеет ничего делать по хозяйству. Кажется, она еще твердила – хотя я лично такого не слышала, – что ему от Катарины нужны только деньги да связи ее матушки среди художников и галеристов. Вроде бы еще она добавила, что Яну вообще невдомек, что такое любовь.
Как можно так низко пасть, а еще мать называется? Понятно, она боялась, что в одиночку ей с ветхим трактиром не управиться, да только разве страх остаться одной и потрудиться чуть усердней, чем привыкла, – причина, чтобы очернять собственное дитя?
Когда люди у меня допытываются – а случается это чуть ли не каждый день, стоит мне подойти к мясному прилавку, – я отвечаю, что Ян попросту влюбился и потерял голову. Поясняю, что у него внутри все совсем не так устроено, как у нормальных людей. А если сплетники прохаживаются насчет деньжат, водящихся у Тинс, такие разговоры я мигом прекращаю. Буду стоять на своем: Яну до денег дела нет. Будь то иначе, уж он бы десять раз подумал, что писать на своих полотнах.
Кстати, те, кто намекает на корыстолюбие, пусть объяснят, почему он не остался писать свои картины в тишине и покое на Ауде-Лангендайк, а вернулся в «Мехелен».
Конечно, вовсе не потому, что он весь такой хороший, – меньше бы спорил с тещей, и не пришлось бы бежать из невыносимой обстановки. Да только такой поступок, по-моему, говорит о том, что Яна можно упрекнуть в чем угодно, но не в погоне за наживой и не в поисках легких путей.
Вот мы и добрались до понимания, отчего все беды в его жизни происходят: там, где другие сначала дно прощупают и дождутся попутного ветра, Ян очертя голову бросается в омут. Так вышло и с женитьбой, и с уходом из тещиного дома после знатного скандала, и прежде всего с той мерзкой картиной. Да уж, этот господин успел наломать дров – рассорился с половиной Делфта.
Все же, несмотря на все свои злоключения, он остается верен Катарине и пытается ее осчастливить на свой дурацкий лад: уж до того пытается услужить, что порою только раздражает. Если б это помогло, он бы и серенаду под окном спел, с него бы сталось. Тот портрет, конечно, о многом говорит – так и светится любовью. Ему, наверно, кажется, что все должны любить ее не меньше, чем он сам. К его чести стоит сказать, что в этот раз он не стал изображать рядом себя с почти бесстыдным обожанием преклоняющимся перед своей Делфтской мадонной.
Конечно, он ей верен, оно и понятно, ведь податься ему больше некуда. Только ей до него и есть дело. Только диву даешься, почему она-то с ним еще возится. Другая бы на ее месте уже давно отвернулась. Точнее, за себя говорю. Уж я бы ему такую оплеуху закатила и выпихнула прочь вместе со всеми его кистями, красками и мольбертами.
Смотрите-ка, а вот и наша малышка Мария! Присаживаюсь на корточки, и девочка подбегает ко мне обняться.
– Мы к папе пойдем?
Милая улыбка, очаровательные кудряшки. Ох, ты ж дорогая моя.
– Нет, непоседа, папе надо рисовать. Вечером сходим, хорошо?
– Он обещал, что мы покрутим волчок!
Малышка показывает мне четки, обмотанные вокруг запястья.
– Красиво, правда, Танки? Тебе тоже нравится?
Это она меня так называет, вместо Таннеке – Танки.
– Конечно. Мне бы тоже хотелось четки из красных кораллов!
А вот и Катарина.
– Ну что? – спрашивает.
Рассказываю, пока мы идем по мосточку к Ауде-Лангендайк, как встретила за стойкой его мать, потом поднялась наверх передать записку и видела ее портрет – очень красивый, – а он сказал, что попозже ответит. Об остальном, что он наговорил, умалчиваю.
Не успеваю досказать, как она засыпает меня вопросами, на которые у меня нет ответа. Откуда мне знать, что у Яна в голове творится, если ей самой это невдомек?
Катарина перехватывает поудобнее Элизабет, которую несет на руках, и смотрит в безлюдную даль.
Молча идем в дом.
Чуть позже, когда мы сидим за столом, она вздыхает:
– И как нам дальше быть, Тан? Я правда понятия не имею.
Воздерживаюсь от советов, потому что не хочу брать пример с ее матушки, иначе все закончится слезами и никчемной ссорой.
Катарина закрывает лицо руками и бормочет, что скоро сойдет с ума. Я достаю из буфета бутылочку бренди и плескаю в бокал на самое донышко. Она глотает и начинает кашлять. Постепенно кашель переходит во всхлипы.
Бессвязно она выпаливает все, что у нее на душе. Ян так замечательно играет с девочками, и никто не знает, какой он чудесный художник, пусть и не такой хороший, как господин Фабрициус или Терборх. В любом случае он достаточно искусен в своем ремесле, чтобы содержать семью, а пока ее матушка им поможет. Если бы он только побольше слушал других! Писал бы то, что нравится делфтским покупателям, а не то, что взбредет в голову. Если бы он только не был таким гордым, хоть кол на голове теши! Ему не помешала бы лишняя дырка в голове, через которую вошел бы разум, потому что уши со своей задачей явно не справляются!
Прикусываю язык, чтобы не заявить, что она слишком мягкотелая и слишком легко все прощает, просто обещаю, что все будет хорошо: Ян пробьется наверх, вот ведь портрет какой замечательный написал, и еще напишет. А ведь как похоже!
Катрина качает головой.
– Мы с Яном пропащие люди.
Я кладу руку ей на запястье.
– Послушайте, хозяйка, у людей память короткая. Небольшой скандалец им только по нраву. Мне тут недавно разъяснили, что им так проще себя чувствовать добрыми христианами. Пока они видят, что вы дергаетесь, будут досаждать, а если поймут, что вам все равно, сразу перестанут задирать, потому как все удовольствие пропадет.
– Я же вижу, как люди на меня оборачиваются, когда я мимо иду! – отчаянно восклицает она.
Наступает короткая тишина. Понятия не имею, кто там на нее оборачивается. Может, оно и так. Может, сказать, что она и сама оборачивается, все люди так делают… Нет, лучше не буду.
– Каждый имеет право на ошибку, и Ян тоже, – твердо говорю я.
Катарина снова качает головой.
– Сомневаюсь, что Делфт даст ему второй шанс.
Спрашиваю, не забыла ли она, почему его полюбила.
Катарина смотрит на меня с недоумением.
– Конечно, нет! Только когда влюблена, все в другом свете видишь. Он такой был неуклюжий на коньках, ужасно милый! Потом еще вино опрокинул… Ян из тех, кто о собственную тень спотыкается. А уж про живопись мог говорить без конца, все пытался мне объяснить, что такое комплементарные цвета. Ты знаешь, что это, Таннеке?
– Ком-леме-нарные? Нет, не знаю…
– Это такие цвета… – Она машет рукой, подыскивая слова. – Ну да ладно, неважно. Я к тому, что у него в голове каких только мыслей не бывает, а самому порой невдомек, что у него штаны прохудились! А все их семейство? А этот трактир? Вижу иногда, как он по улицам бродит и вечно шляпу забывает снять перед знатью! Бывает, застынет на месте и смотрит куда-то… Раз гляжу, а он перед стеной стоит, эскиз рисует: а там сплошные кирпичи и сорняки, крючки какие-то торчат… Вот что там рисовать-то? Я чуть сквозь землю не провалилась! И уж такой рассеянный, не удивлюсь, если он в следующий раз шляпу перед фонарным столбом снимет!
– Не такой уж он и рассеянный, вас же как-то разглядел.
– Сама диву даюсь! Что он во мне увидел?
– Он вами безмерно восхищается! Всем, что в вас есть.
Катарина мимолетом улыбается, но улыбка тотчас застывает на губах. Она вертит в руках пустой бокал.
– В том, что он не от мира сего, есть, конечно, и преимущество. Он никого не боится. Конечно, он сторонится парней вроде Виллема, но сильно они его не беспокоят, понимаешь? У него свой путь в жизни, а что другие об этом думают… Ему даже в голову не приходит из-за этого волноваться. Странно, он так раним и в то же время неуязвим, хотя и непонятно, как так получается. Ну да ладно, главное, что он не от мира сего, вот что я хочу сказать!
Киваю, наблюдая за ней: Катарина застыла, глядя вдаль, словно вспоминает что-то очень приятное.
– Ты знаешь, он стихи мне писал, показывал особые места в дюнах и на лугах. Представляешь, он определяет римскую ромашку по запаху и знает, где гнездятся чибисы. Каждую весну первое яичко всегда для меня! Когда-то он даже целый спектакль передо мной разыграл и сам исполнял все роли. Только представь себе, Тан, воплотил целых три персонажа! Вообще-то, он просто шапки менял… Впрочем, даже когда играл, оставался собой, другого он не умеет. Ладно, не суть важно. А тогда говорит он, значит, текст, а сам на меня исподтишка поглядывает, нравится мне или нет. Разве не мило? О чем там шла речь в этой пьесе, не спрашивай, я не следила.
Катарина переводит взгляд на меня.
– Я, наверно, сумбурно рассказываю…
Тут уж моя очередь улыбаться.
Катарина вздыхает:
– Обо мне в семье всегда так пеклись, мама всю жизнь считала меня маленькой и беспомощной. Так хорошо иногда сменить роль. Наконец-то я кому-то нужна. Может, я наконец-то нашла роль в собственной пьесе.
5. Катарина
Это, случаем, не господин Ван Рейвен там идет? Вижу его, пока стою в очереди у рыбного прилавка. Точно, он. Что же делать? Сначала купить рыбу или замолвить словечко за Яна? Либо рыбку съесть, либо на мель сесть…
Решаюсь на второе. Выскальзываю из очереди и нагоняю его у моста Вармусбрюг.
– Господин Ван Рейвен, надо же, какое совпадение! Как удачно, что я вас встретила. Можно с вами переговорить?
Он опускает трость на тротуар и изучает меня взглядом.
– Мне доводилась честь ранее быть вам представленным?
– Конечно, я супруга Яна! Яна Вермеера, художника! И дочь Марии Тинс.
– Ах да, конечно! Прошу меня извинить. Пожалуйста, не рассказывайте об этом недоразумении моей супруге, она вечно меня попрекает забывчивостью. Недавно я позабыл о дне рождения нашей дочери, а теперь вот и вас не узнал… Когда же я вас видел в последний раз?
Без сомнения, на картине Яна, однако не будем сейчас об этом.
– Знаете, я хотела у вас спросить… Мой муж сейчас… Как бы сказать?..
– Я понял! У вашего мужа сейчас полно неприятностей, которые, боюсь, он сам на себя и навлек.
Быстро оглядываюсь по сторонам, не подслушивает ли кто. Никому нет до нас дела, все поскорее спешат укрыться от надвигающейся бури.
– Он слегка вспыльчивый, и сейчас ему нужно…
– Поставить мозги на место. Надеюсь, вы сможете ему в этом помочь! – назидательно говорит господин Ван Рейвен.
– Я стараюсь как могу.
Он поглядывает на небо. Дольше тянуть нет смысла, надо переходить к делу.
– Помимо этого, ему бы не мешало и кое-какую работу получить. Побольше заказов! Иначе я и не знаю, как мы дальше будем.
Ветер усиливается. Мой собеседник придерживает шляпу за поля.
– Даже не знаю, чем я могу вам помочь. Я с ним уже разговаривал, просил, чтобы зашел ко мне, как только закончит новый портрет. Когда же это было? По-моему, в мае. Я знал, конечно, что он медленно работает, но чтобы до такой степени…
– Портрет почти готов, только Ян все еще не может с ним расстаться, все доделывает… Думаю, вы понимаете, о чем я.
– Приличный на этот раз?
– Да, он писал с меня, там я сижу у стола.
– Вот как? Любопытно будет посмотреть. – Впервые за весь разговор на его лице появляется легкая улыбка. – Поторопите его, пожалуйста. И пусть держит меня в курсе.
Господин Ван Рейвен приподнимает шляпу.
– Передавайте привет вашей матушке. Замечательная женщина, всегда это говорил!
Вымокнуть он явно не желает, поэтому спешит прочь в поисках убежища.
По улице Вайнстраат летят обломанные ветки. Дома, стоящие по другую сторону, отражаются в темной воде канала. Круги на поверхности воды говорят о том, что с неба срываются первые капли дождя.
Мне нужно подумать. Пройдусь еще кружок, прежде чем вернуться на рыбный рынок, все равно намокну. Как же так, почему Ян до сих пор не обратился к господину Ван Рейвену за работой? Может, стоило заговорить об авансе? Я забыла передать привет его супруге… В бесплодных размышлениях и беспокойствах я сильна. Меня, например, занимает такой вопрос: то ли я холодный человек, но милый с виду, как я сама считаю, то ли я – теплый человек, но с виду холодноватый, как думают другие. Моя мать, например, говорит, что я слишком строго о себе сужу.
Ах, как же людям меня понять, если я сама себя не понимаю? Другие охотно выходят наружу в солнечный день, а я отсиживаюсь дома. Если же на улице пустынно, как сейчас, мне гораздо спокойнее – меньше косых взглядов.
Плетусь по каменной мостовой, вглядываясь в блестящие камни. Возможно, сейчас я показала свою решительность, но на самом деле у меня вечно сомневающаяся натура. В те недели, пока Ян работал над групповым портретом, я полностью его поддерживала. Знала я о его планах? И да, и нет. Пикантные сцены хорошо продаются, так он утверждал. Замысел у него был колоссальный. Я была полностью на его стороне, даже когда поняла, что он поместил на портрет самого себя в роли наблюдателя. Ян столько рассуждал о том, что за тобой наблюдают, пока наблюдаешь ты сам, – вроде бы хотел донести до людей мысль, что им нужно критичнее смотреть на самих себя.
А что же с продажной девицей? Я, без сомнения, узнала в ней свои черты. Ян поначалу отнекивался, а потом повернул все так, будто тем самым сделал сцену гораздо интереснее. Переубедить его у меня не вышло. В конце концов я сдалась и позволила ему писать, как хочет. Я избегала заходить в его студию, делала вид, словно картины не существовало. Глупость, конечно. По сути, я просто спрятала голову в песок.
Дождь усиливается, так что я укрываюсь под портиком Старой церкви. Здесь же укрылись нищие: один безногий, второй, кажется, не в себе, а третий как-то уж очень внимательно рассматривает меня единственным глазом. Поспешно отворачиваюсь.
После взрыва на пороховом складе, случившегося три года назад, в городе много увечных. Нам повезло, что наш дом и мы сами уцелели. Протестантам, по крайней мере, разрешается просить милостыню. Вздумай католик протянуть руку за подаянием, его в два счета выставят из города.
В последний раз я стояла здесь с Яном. До сих пор помню, что в тот день мы первый раз прошлись, взявшись за руки. Я бы от такой прогулки воздержалась, но не могла дольше противиться его настойчивости, тем более я только что сказала, что он для меня – тот самый. Как он возгордился! Я тоже, конечно, и все же мне было не по себе. В тот день дождя ничто не предвещало, но, когда мы юркнули в один из портиков, нас заметили какие-то парни. Ничего хорошего от них ждать не приходилось.