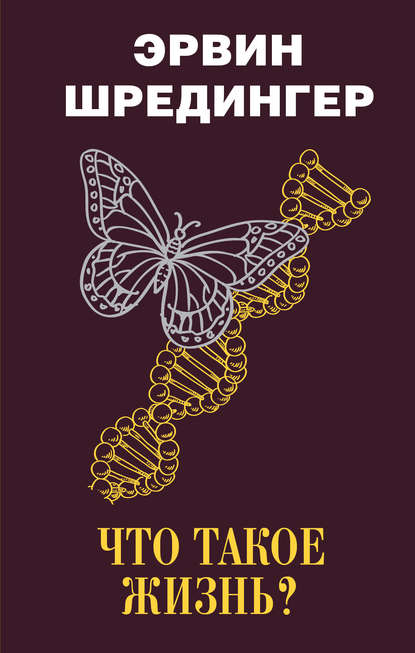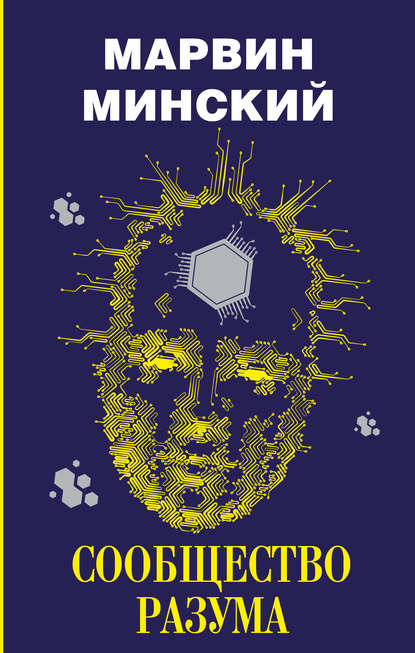Полная версия
Не все ли равно, что думают другие?
Так или иначе, я прочитал про все лимфатические заболевания и решил, что Арлин, вероятнее всего, неизлечимо больна. Тогда я слегка улыбнулся себе при мысли: «Держу пари, все, кто прочитал книгу по медицине, думают, что они смертельно больны». И все же, прочитав все очень внимательно, я никакого другого варианта отыскать не смог. Это было серьезно.
Потом я пошел на еженедельное чаепитие в Палмер-холл и обнаружил, что беседую с математиками так же, как и всегда, а ведь я только что узнал, что Арлин, вероятно, смертельно больна. Это было очень странно – как будто у меня два различных сознания.
Когда я приехал навестить Арлин, я пересказал ей шутку о людях, которые ничего не понимают в медицине и, читая медицинскую литературу, всегда обнаруживают, что они смертельно больны. Но еще я сказал ей, что, по-моему, у нас серьезные неприятности и что лучшее, что мне удалось выяснить, это что она неизлечимо больна. Мы обсудили различные заболевания, и я рассказал ей про каждое из них.
Одним из заболеваний, о которых я рассказал Арлин, была болезнь Ходжкина. Когда она после этого увидела своего врача, она его спросила:
– А не может это быть болезнь Ходжкина?
Он сказал:
– Ну да, такое возможно.
Она пошла в окружную больницу, и врач написал следующий диагноз: «Болезнь Ходжкина—?» Так я понял, что врач знал об этой проблеме не больше, чем я.
В окружной больнице Арлин, чтобы проверить диагноз, провели всевозможные анализы и рентгеновские обследования, а потом устроили консилиум для обсуждения этого специфического случая. Я помню, как ждал ее снаружи, в холле. Когда консилиум закончился, медсестра выкатила ее в инвалидном кресле. Вдруг из конференц-зала выбегает какой-то коротышка и догоняет нас.
– Скажите, – спрашивает он, запыхавшись, – вы не срыгивали кровь? У вас когда-нибудь отхаркивалась кровь?
Медсестра говорит:
– Уходите! Уходите! Разве можно задавать пациентам такие вопросы! – и оттесняет его в сторону. Потом она повернулась к нам и сказала: – Этот человек – здешний врач, он приходит на консилиумы, и вечно от него неприятности. Пациентам таких вопросов не задают!
Я не понимал, в чем дело. Врач проверял определенную возможность, и будь я умнее, то спросил бы его, какую именно.
Наконец после долгого обсуждения, больничный врач говорит мне, что они считают наиболее вероятным вариантом болезнь Ходжкина.
Он говорит:
– Будут какие-то периоды улучшения и какие-то периоды в больнице. Состояние будет то ухудшаться, то улучшаться, постепенно делаясь все хуже. Полностью обратить ход заболевания невозможно. Через несколько лет оно приведет к смерти.
– Мне очень жаль это слышать, – говорю я. – Я передам ей, что вы сказали.
– Нет-нет! – говорит врач. – Мы не хотим расстраивать пациента. Мы собираемся сказать ей, что это инфекционный мононуклеоз.
– Нет-нет! – отвечаю я. – Мы уже обсудили возможность того, что это болезнь Ходжкина. Я знаю, она способна это принять.
– Ее родители не хотят, чтобы она знала. Вам бы лучше для начала поговорить с ними.
Дома меня обрабатывали все: мои родители, две мои тетки, наш домашний врач; все они нападали на меня, говоря, что я страшно глупый юнец, который не понимает, какую боль он собирается причинить этой замечательной девушке, сообщив ей, что она неизлечимо больна.
– Как ты можешь совершить такой кошмарный поступок? – в ужасе спрашивали они.
– Мы заключили соглашение говорить друг с другом честно и всегда смотреть правде в глаза. Тут не получится свалять дурака. Она меня спросит, что у нее, и я не смогу ей солгать!
– Ах, ну это же просто ребячество! – сказали они – бла-бла-бла.
Все они продолжали меня обрабатывать и говорили, что я не прав. Я полагал, что я прав по определению, потому что уже говорил с Арлин об этой болезни и знал, что она может с этим столкнуться, и что самое правильное – это сказать ей правду.
И вот в конце концов подходит ко мне моя младшая сестренка – ей тогда было лет одиннадцать-двенадцать, – по лицу у нее текут слезы. Она ударяет меня в грудь и говорит, что Арлин – такая замечательная девушка, а я – такой тупой, упрямый брат. Я не мог больше этого выносить. Это меня сломало.
Итак, я написал Арлин прощальное любовное письмо, полагая, что, если после того как я ей скажу, что это инфекционный мононуклеоз, она когда-нибудь узнает правду, между нами будет все кончено. Я постоянно носил это письмо с собой.
Боги никогда ничего не облегчают; они лишь делают все еще труднее. Я иду в больницу, чтобы повидать Арлин – приняв это решение, – и там она сидит на кровати, а рядом ее родители, немного не в себе. Когда она видит меня, лицо ее озаряется и она говорит:
– Теперь я знаю, насколько ценно то, что мы говорим друг другу правду! – Указав кивком на своих родителей, она продолжает: – Они говорят, что у меня инфекционный мононуклеоз, а я не знаю, верить им или нет. Скажи мне, Ричард, у меня болезнь Ходжкина или инфекционный мононуклеоз?
– У тебя инфекционный мононуклеоз, – сказал я, и внутри у меня все оборвалось. Это было ужасно – воистину ужасно! Она отреагировала совсем просто:
– О! Чудесно! Тогда я им верю. – Мы построили такое огромное взаимное доверие, что она полностью расслабилась. Все разрешилось, и все было совершенно замечательно.
Ей стало чуть получше, и она на какое-то время выписалась домой. Примерно неделю спустя у меня раздается телефонный звонок.
– Ричард, – говорит она, – я хочу с тобой поговорить. Приходи.
– Иду.
Я удостоверился, что письмо у меня по-прежнему с собой. Понятно было, что что-то случилось.
Я поднимаюсь к ней в комнату, и она говорит:
– Садись.
Я сажусь в изножье ее кровати.
– Ладно, а теперь скажи мне, – говорит она, – у меня инфекционный мононуклеоз или болезнь Ходжкина?
– У тебя болезнь Ходжкина. – И я достал письмо.
– Господи! – говорит она. – Они, должно быть, провели тебя через ад!
Я только что сказал ей, что она неизлечимо больна, да еще и признался, что солгал ей, и о чем она думает? Она беспокоится за меня. Мне было ужасно стыдно. Я протянул Арлин письмо.
– Тебе следовало бы сдержать обещание. Мы знаем что делаем; мы правы!
– Прости. Я чувствую себя кошмарно.
– Я знаю, Ричард. Только больше так не поступай.
Понимаете, она была в кровати, у себя наверху, и сделала то, что частенько проделывала, когда была маленькой: встала на цыпочках с постели и прокралась немножко вниз по лестнице, чтобы послушать, что происходит внизу. Она услышала, что ее мама горько плачет, и вернулась в постель, размышляя: «Если у меня инфекционный мононуклеоз, почему мама так плачет? Но Ричард сказал, что у меня инфекционный мононуклеоз, а значит, это должно быть правдой!»
Позже она подумала: «Мог ли Ричард солгать мне?» – и начала задаваться вопросом, как такое могло случиться. Она пришла к заключению, что, как бы невероятно это ни звучало, но возможно, меня кто-то каким-то образом шантажировал.
Она так хорошо держалась, сталкиваясь с тяжелыми ситуациями, что перешла к следующему вопросу.
– Ладно, – говорит она. – У меня болезнь Ходжкина. И что мы теперь собираемся сделать?
В Принстоне у меня была стипендия, и если бы я женился, то потерял бы эту стипендию. Мы знали, как протекает болезнь: иногда на несколько месяцев наступает улучшение и Арлин сможет быть дома, а потом ей придется на несколько месяцев возвращаться в больницу – туда-обратно, туда-обратно, где-то порядка двух лет.
Итак, я прикидываю – хоть я уже на полпути к степени по физике, – что мог бы получить работу в научно-исследовательских лабораториях Белла – это было очень хорошее место, – и мы могли бы снять небольшую квартирку в Куинсе, не слишком далеко от больницы и от лабораторий. Мы могли бы пожениться через пару месяцев в Нью-Йорке. В тот день мы распланировали все.
Врачи уже несколько месяцев хотели взять у Арлин биопсию опухоли на шее, однако ее родители были против – они не хотели «тревожить бедную больную девочку». Но когда мы приняли новое решение, я стал уговаривать их, объясняя, насколько важно получить максимально возможное количество информации. С помощью Арлин я наконец их убедил.
Несколько дней спустя Арлин звонит мне и говорит:
– Результаты биопсии готовы.
– Да? Они хорошие или плохие?
– Не знаю. Приходи, и давай об этом поговорим.
Когда я добрался до ее дома, она показала мне результаты. Там говорилось: «Биопсия выявила туберкулез лимфатической железы».
Меня это просто ошеломило. Ведь эта проклятая штука стояла первой в списке! Я пропустил ее, потому что книга утверждала, будто диагностировать ее легко, а врачи испытывали такие огромные трудности, пытаясь выяснить, что это. Я предположил, что самый очевидный случай они проверили. А это и в самом деле был очевидный случай: тот человек, который выбежал за нами из конференц-зала с вопросом: «Вы не срыгивали кровь?» – понял все правильно. Он-то наверняка знал, что это!
Я чувствовал себя последним тупицей из-за того, что упустил очевидную возможность, воспользовавшись косвенными доказательствами – которые оказались никчемными – и предположив, что врачи умнее, чем на самом деле. Иначе бы я сразу догадался, и, возможно, врачи уже давно диагностировали бы болезнь Арлин как «туберкулез лимфатической железы—?». Я был болваном. Это стало для меня уроком.
Как бы то ни было, Арлин говорит:
– Итак, я могу прожить целых семь лет. Мне даже может стать лучше.
– Тогда почему ты говоришь, что не знаешь, хорошо это или плохо?
– Ну, теперь у нас не получится пожениться так надолго.
Зная, что ей оставалось жить всего два года, мы так блестяще, на ее взгляд, разрешили все проблемы, что, когда выяснилось, что она проживет дольше, она растерялась и расстроилась! Впрочем, я довольно быстро убедил ее, что так гораздо лучше.
Вот так мы поняли, что можем отважно встретить все. После того как мы прошли через такое, нам ничего не стоило отважно встретить любую другую проблему.
Когда началась война, меня призвали на работу над Манхэттенским проектом в Принстоне, где я заканчивал свою диссертацию. Несколько месяцев спустя, как только я получил степень, я объявил своей семье, что хочу жениться.
Отец пришел в ужас, потому что, наблюдая мое развитие с самых ранних лет, считал, что я найду свое счастье в науке. Он считал, что мне еще слишком рано жениться – это помешает карьере. А кроме того, у него была бредовая идея: если у парня возникали какие-то проблемы, он всегда говорил: «Cherchez la femme» – ищите женщину, которая за этим стоит. Он полагал, что женщины – страшная опасность для мужчины, что мужчина всегда должен держаться настороже и не идти у женщины на поводу. И когда он видит, что я женюсь на девушке, больной туберкулезом, он думает о том, что я тоже могу заболеть.
Вся моя родня переживала по этому поводу – тети, дяди, все. Они привели к нам домой семейного доктора. Тот попытался объяснить мне, что туберкулез – опасная болезнь и что я непременно заражусь.
Я сказал: «Вы мне просто расскажите, как он передается, и мы поймем, что делать». Мы уже были очень, очень осторожны: мы знали, что не должны целоваться, потому что во рту много бактерий. Тогда мне очень осторожно объяснили, что я, когда обещал жениться на Арлин, не знал ситуации. Все поймут, что я тогда не знал ситуации и что мои обязательства недействительны.
У меня никогда не было такого ощущения, такой бредовой идеи, какая была у них – будто я женюсь, потому что обещал жениться. Мне это даже в голову не приходило. Это не было вопросом обязательств; мы просто застряли на месте, не получая бумаги и не заключая брак официально, но мы любили друг друга и эмоционально уже были мужем и женой.
Я сказал: «Если муж узнает, что у его жены туберкулез, это повод для того, чтобы ее бросить?»
Только одна моя тетя, которая управляла отелем, считала, что если мы поженимся, то, может, все будет хорошо. Все остальные по-прежнему были против. Но на этот раз, поскольку моя родня уже один раз дала мне такого рода совет и он оказался абсолютно неверным, моя позиция была намного сильнее. Было очень нетрудно противостоять им и просто следовать дальше своим курсом. Так что на самом деле никаких проблем не было. И хотя обстоятельства были похожие, они все равно не смогли бы меня больше ни в чем убедить. Мы с Арлин знали, что правы в том, что делаем.
Мы с ней продумали все. В Нью-Джерси, к югу от Форт-Дикса, была больница, где Арлин могла остаться, пока я буду в Принстоне. Это была благотворительная больница – она называлась «Дебора», – и ее содержал Нью-йоркский союз работниц по пошиву одежды. Арлин не была работницей по пошиву одежды, но это не имело никакого значения. Я был всего лишь молодым парнем, работающим над правительственным проектом, и жалованье у меня было очень низкое. Но в конце концов, это то, что я мог ей обеспечить.
Мы решили пожениться по пути в больницу «Дебора». Я поехал в Принстон, чтобы взять машину, – Билл Вудворд, один из тамошних аспирантов, одолжил мне свой «универсал». Я переоборудовал его в небольшую карету «скорой помощи», положив сзади матрац и простыни, чтобы Арлин, если устанет, смогла прилечь. Хотя это был один из тех периодов, когда Арлин чувствовала себя не так плохо и находилась дома, она долго лежала в окружной больнице и была еще слабенькая.
Я отправился в Седархерст и забрал свою невесту. Родные Арлин помахали нам на прощание, и мы уехали. Мы пересекли Квинс и Бруклин, затем на пароме перебрались на Статен-Айленд – это было нашим романтическим плаваньем на корабле – и направились в здание муниципалитета Ричмонда, чтобы зарегистрировать брак.
Мы медленно поднялись по лестнице в офис. Там был очень славный парень. Он сразу же все устроил. Он сказал: «У вас нет ни одного свидетеля», – поэтому он позвал из соседней комнаты экономиста и бухгалтера, и мы вступили в брак, согласно законам штата Нью-Йорк. Мы были очень счастливы и улыбались друг другу, держась за руки.
Экономист говорит мне:
– Теперь вы муж и жена. Вы должны поцеловать невесту!
И вот робкий юноша поцеловал свою невесту в щечку.
Я всем раздал чаевые, и мы долго благодарили их. А потом вернулись в машину и отправились в больницу «Дебора».
Каждые выходные я приезжал из Принстона навестить Арлин. Как-то раз автобус опоздал, и я не сумел пройти в больницу. Ни одного отеля поблизости не нашлось, но у меня был мой старый овчинный тулуп (поэтому мне было не холодно), и я стал искать пустой клочок земли, где бы поспать. Меня слегка беспокоило, что будет утром, когда из окон начнут выглядывать люди, и поэтому я нашел местечко подальше от домов.
Утром, проснувшись, я обнаружил, что спал на куче мусора – на свалке! Я почувствовал себя дураком и рассмеялся.
У Арлин был замечательный врач, но он расстраивался, когда я каждый месяц приносил восемнадцатидолларовую облигацию военного займа. Он видел, что у нас не так много денег, и упорно настаивал на том, что мы не должны вносить пожертвования на больницу, но я все равно это делал.
Однажды в Принстоне я получил по почте коробку карандашей. Они были темно-зеленые, и на них золотыми буквами было написано: «РИЧАРД, МИЛЫЙ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! ПУТСИ» Их прислала Арлин (я звал ее Путси).
Ну, все это прекрасно, и я ее тоже люблю, но сами знаете, как по рассеянности всюду забываешь карандаши: демонстрируешь профессору Вигнеру какую-нибудь формулу или еще что-то такое и оставляешь карандаш у него на столе.
В те дни у нас ничего лишнего не было, и я не хотел, чтобы карандаши лежали без дела. Я взял из ванной лезвие и соскоблил на одном из них надпись, чтобы посмотреть, получится ли их использовать.
На следующее утро я получаю по почте письмо. Оно начинается так: «ЧТО ЗА МЫСЛЬ – ПОПЫТАТЬСЯ СРЕЗАТЬ С КАРАНДАШЕЙ ИМЯ?»
И дальше: «Разве ты не гордишься тем, что я тебя люблю?»
И после этого: «НЕ ВСЕ ЛИ РАВНО, ЧТО ДУМАЮТ ДРУГИЕ?»
А потом был стишок: «Если ты меня стыдишься, там-там-там, то получишь на пекан! на пекан!» Следующая строфа была такая же, только последняя строчка другая: «то получишь на миндаль! на миндаль!» И каждая строфа завершалась строчкой «получишь на орехи!» в разных вариантах.
Вот так вот мне пришлось пользоваться именными карандаши. А что еще оставалось делать?
Это было незадолго до того, как мне пришлось переехать в Лос-Аламос. Роберт Оппенгеймер, который отвечал за проект, организовал так, чтобы Арлин лежала в самой ближайшей больнице, в Альбукерке, примерно в сотне миль оттуда. Каждые выходные у меня было свободное время, чтобы повидаться с ней, и я добирался до Альбукерке в субботу на попутных машинах, днем встречался с Арлин и ночевал в гостинице. Потом, в воскресенье утром, я снова виделся с Арлин, а днем возвращался автостопом обратно в Лос-Аламос.
На неделе я часто получал от нее письма. Некоторые из них – например, то, которое она написала на чистой стороне паззла, а потом этот паззл разобрала и отправила в конверте, – заканчивались короткими примечаниями военного цензора: «Скажите, пожалуйста, вашей жене, что у нас тут нет времени в игрушки играть» – и прочее в том же духе. Я ей ничего не говорил. Мне нравилось, когда она играла в игрушки – пусть даже при этом она часто ставила меня в неловкие и смешные ситуации, из которых я не знал, как выкрутиться.
Однажды, где-то в начале мая, почти у всех в Лос-Аламосе в почтовых ящиках таинственным образом появились газеты. Все это проклятое место было просто завалено газетами – их были сотни. Знаете, такие – разворачиваешь газету, а там через всю первую полосу заголовок, гласящий жирным шрифтом: «ВСЯ СТРАНА ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Р. Ф. ФЕЙНМАНА!»
Арлин играла в свои игрушки со всем миром. У нее было много времени на размышления. Она читала журналы и выписывала то одно, то другое. Она постоянно что-нибудь придумывала. (С именами адресатов ей, должно быть, помог Ник Метрополис или еще кто-нибудь из ребят из Лос-Аламоса, которые ее часто навещали.) Арлин находилась в своей палате, но, сочиняя мне потрясающие письма и отправляя самые разные вещи, она пребывала во внешнем мире.
Однажды она прислала мне большой каталог кухонного оборудования – такого, которое требуется в огромных учреждениях вроде тюрьмы, где очень много народу. Там было представлено все – от воздуходувок и вытяжных шкафов для печей до гигантских чанов и кастрюль. И вот я думаю: «Что, черт подери, это значит?»
Это напомнило мне то время, когда я поступил в МТИ и Арлин прислала мне каталог, живописующий огромные суда – от военных кораблей до океанских лайнеров – прекрасные гигантские лодки. Я написал ей: «Что это ты замыслила?»
Она отвечает на письмо: «Я просто подумала, что, может, когда мы поженимся, мы могли бы купить лодку».
Я пишу: «Ты с ума сошла? Они же все непомерные!»
Затем приходит другой каталог, в нем большие яхты – сорокафутовые шхуны и прочее в том же духе – для очень богатых людей. Она пишет: «Раз уж ты сказал про те лодки «нет», может, мы сумеем приобрести какую-нибудь из этих».
Я пишу: «Смотри: ты не вписываешься в масштаб!»
Вскоре приходит еще один каталог: в нем разные виды моторных лодок – «Крис Крафт» и прочее.
Я пишу: «Слишком дорого!»
Наконец, я получаю записку: «Это – твой последний шанс, Ричард. Вечно ты говоришь “нет”». Оказывается, у ее подруги есть гребная шлюпка, которую та хочет продать за 15 долларов – подержанная гребная шлюпка, – и, может, мы могли бы ее купить и поплавать на ней следующим летом?
Ну и конечно – да. То есть я имею в виду: как можно после всего этого сказать «нет»?
И вот я продолжаю попытки угадать, к чему ведет этот большой каталог кухонного оборудования для учреждений, и тут приходит другой каталог: для отелей и ресторанов – поставки для маленьких и средних отелей и ресторанов. А потом еще через несколько дней приходит каталог для «кухни в твоем новом доме».
Приехав в следующую субботу в Альбукерке, я выясняю, к чему это все. В ее палате стоит маленькая темно-серая жаровня – она заказала ее по почте в «Сирсе». Дюймов восемнадцать шириной, на коротких ножках.
– Я подумала, что мы могли бы жарить стейки, – говорит Арлин.
– Как, черт подери, мы сможем жарить их в палате, здесь же будет весь этот дым и все прочее!
– О нет, – говорит она. – От тебя требуется только вынести ее на лужайку. И тогда ты каждое воскресенье сможешь жарить нам стейки.
Больница стояла прямо на шоссе № 66 – главной дороге, проходящей через все Соединенные Штаты!
– Я не могу, – сказал я. – Ну, то есть, там едут мимо все эти легковушки и грузовики, и все эти люди, которые идут по тротуару, не могу же я вот так вот просто пойти туда и начать жарить стейки на лужайке!
– А тебе-то какое дело, что другие подумают? (Арлин меня этим замучила!) Ладно, – говорит она, открывая ящик, – мы пойдем на компромисс: поварской колпак и перчатки тебе надевать не придется.
Она держит колпак – самый настоящий поварской колпак – и перчатки. А потом говорит:
– Примерь-ка фартук, – и разворачивает фартук.
Поперек фартука – какая-то дурацкая надпись, что-то вроде «Король барбекю».
– Ну ладно, ладно! – в ужасе говорю я. – Я пожарю стейки на лужайке!
Вот так каждую субботу или воскресенье я выходил на обочину шоссе № 66 и жарил стейки.
Потом были рождественские открытки. Однажды, всего через несколько недель после того как я переехал в Лос-Аламос, Арлин говорит:
– Я подумала, что хорошо бы послать всем рождественские открытки. Хочешь посмотреть, кого я выбрала?
Открытки были очаровательны, но на них было написано: «С Рождеством Христовым, от Рича и Путси».
– Я не могу отправить такие открытки Ферми и Бете, – запротестовал я. – Я же с ними едва знаком!
И естественно, в ответ:
– А тебе-то какое дело, что другие подумают?
Итак, мы отправили эти открытки.
Проходит год, и теперь я уже знаком с Ферми. Я знаком с Бете. Я бывал у них в гостях. Играл с их детьми. Мы все очень дружим.
Где-то между делом Арлин говорит мне очень официальным тоном:
– Ричард, ты не спросил меня о наших рождественских открытках на этот год…
Меня охватывает ужас.
– Э-э-э, ну, в общем, давай посмотрим открытки.
Открытки гласят: «С Рождеством Христовым и с Новым годом, от Ричарда и Арлин Фейнман».
– Ну, чудесно, – говорю я. – Прекрасные открытки. Они для всех замечательно подойдут.
– Э, нет, – говорит она. – Для Ферми и Бете и всех прочих знаменитостей они не годятся.
И разумеется, у нее есть еще одна коробка с открытками.
Она их вытаскивает. На открытках – те же самые поздравления и подпись: «Доктор и миссис Фейнман».
И конечно, мне пришлось послать им эти открытки.
– К чему такой официоз, Дик? – смеялись они. Они были счастливы, что Арлин это так забавляет, а я ничего не могу поделать.
Арлин не все свое время тратила на эти изобретательные игры. Она заказала книгу, называвшуюся «Звук и символ в китайском языке». Это была прекрасная книга – она у меня до сих пор хранится, – там порядка пятидесяти иероглифов, в превосходной каллиграфии, с объяснениями вроде: «Проблема: три женщины в доме». У Арлин были соответствующая бумага, кисти и чернила, и она отрабатывала каллиграфию. Она купила еще и китайский словарь, в котором иероглифов было гораздо больше.
Как-то раз, когда я ее навещал, Арлин выводила иероглифы. Она говорит себе:
– Нет. Это неправильно.
И вот я, «великий ученый», говорю:
– Что значит «неправильно»? Это всего лишь договоренность между людьми. Нет ни единого закона природы, который гласит, как они должны выглядеть; ты можешь их рисовать, как тебе вздумается.
– Это неправильно с художественной точки зрения. Здесь вопрос равновесия, как оно ощущается.
– Но этот так же хорош, как и другой, – протестую я.
– Держи, – говорит она и вручает мне кисточку. – Нарисуй его сам.
Итак, я нарисовал иероглиф и сказал:
– Погоди. Дай-ка я еще один нарисую – этот какой-то слишком округлый. (Не мог же я после всего этого сказать, что он неправильный.)
– А откуда ты знаешь, насколько он должен быть округлым? – говорит она.
До меня дошло, что она имела в виду. Имеется определенный способ нанести штрих, чтобы он выглядел красиво. Эстетический объект обладает некоей структурой, некими характеристиками, которым я не могу дать точного определения. А поскольку определить это невозможно, я думал, что этого не существует. Но из того эксперимента я понял, что оно существует – это то волшебство, которое с тех пор для меня есть в искусстве.
И тут как раз сестра присылает мне открытку из Оберлина, где она поступает в университет. Открытка испещрена мелкими символами, выписанными карандашом, – китайскими иероглифами.
Джоан на девять лет моложе меня и тоже изучает физику. С таким старшим братом, как я, ей пришлось нелегко. Она всегда искала что-нибудь, чего я не смогу сделать, и тайно изучала китайский язык. Ну китайского я не знал вообще, но что я умею – это тратить бесконечное количество времени, решая загадки. В следующие выходные я захватил с собой открытку в Альбукерке. Арлин показала мне, как искать иероглифы. Начинать следует с конца словаря, с нужной категории, и сосчитать число линий. Затем вы переходите к основной части словаря. Каждый иероглиф, оказывается, имеет несколько возможных значений, и понять это можно, только объединив сначала несколько иероглифов.