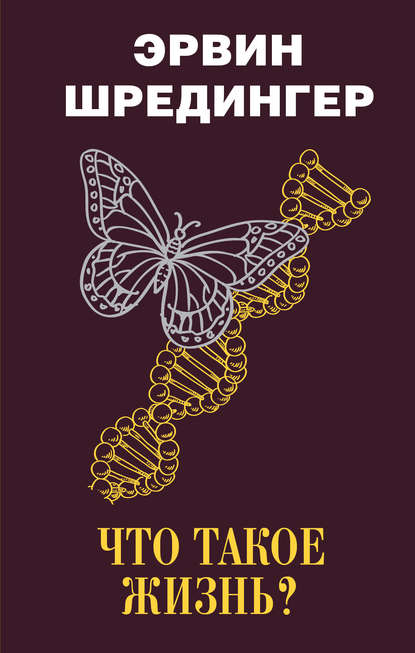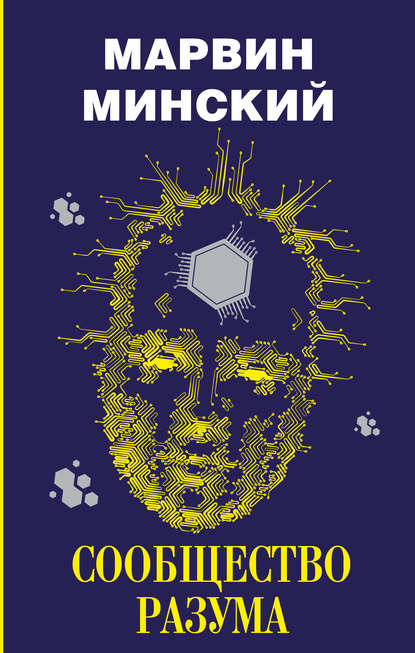Полная версия
Не все ли равно, что думают другие?
Прослонявшись какое-то время в полной растерянности, я наконец бормочу себе под нос, что хотел бы потанцевать с Арлин. Один из ребят, с которыми я тут слоняюсь, подслушивает это и громко объявляет остальным: «Эй, ребят, слышите? Фейнман хочет потанцевать с Арлин!» И вот один из них уже танцует с Арлин, и они продвигаются в танце к нашей группке. Ребята выталкивают меня на танцпол, и я наконец-то «в игре». Мое тогдашнее состояние вы можете оценить по тем первым словам, что я ей сказал – это был честный вопрос: «И как оно тебе – быть такой популярной?» Мы протанцевали всего несколько минут, и ее у меня перехватили.
Мы с друзьями брали уроки танцев, хотя ни один из нас никогда бы в этом не сознался. В те времена Депрессии подруга моей матери пыталась зарабатывать на жизнь, обучая по вечерам танцам в студии на верхнем этаже. Туда вела черная лестница, и мамина подруга устроила так, чтобы молодые люди могли ходить на занятия через заднюю дверь, никем не замеченные.
Время от времени у нее в студии устраивались танцевальные вечера. Мне казалось, что девушкам приходится куда труднее, чем парням, но проверить эту теорию не хватало решимости. В те дни девушки не могли сами приглашать партнера – это было «непристойно». Поэтому те, что были не слишком хорошенькими, долгими часами сидели у стенки, очень расстроенные.
Я думал: «Парням легко: они вольны менять партнершу всякий раз, как только захотят». Но это тоже было нелегко. Ты «свободен», но тебе не хватает пороха или настроения, или чего-то еще, не важно чего, чтобы расслабиться и наслаждаться танцем. Вместо этого ты весь напряжен, весь на нервах, как бы перехватить партнершу или пригласить девушку с тобой потанцевать. К примеру, увидев, что девушка, которую ты хотел бы пригласить на танец, сейчас не танцует, ты можешь подумать: «Чудесно! Теперь у меня хотя бы есть шанс!» Но обычно все оказывается далеко не так просто: часто девушка отвечает: «Нет, спасибо, я устала. Этот танец я лучше пропущу». И ты уходишь, почти побежденный – но не до конца, ведь, может, она и правда устала, – а потом оборачиваешься, и к ней подходит другой, и вот она уже с ним танцует! Возможно, этот другой – ее парень, и она знала, что он придет, а может, ей не нравится твоя внешность, или, может, что-то еще. Казалось бы, такое простое дело – а как все всегда запутанно.
Как-то раз я решил позвать Арлин на один из таких танцевальных вечеров. Я тогда впервые ее куда-то пригласил. Мои лучшие друзья тоже туда пришли; их пригласила моя мама, чтобы помочь подруге, которая давала уроки танцев. Эти ребята были моими ровесниками, я с ними учился в школе. Гарольд Гаст и Дэвид Лефф увлекались литературой, а Роберт Стэплер – естественными науками. Мы много времени проводили вместе, прогуливаясь после школы и разговаривая о всякой всячине.
Как бы то ни было, мои лучшие друзья были на танцах, и, едва увидев меня с Арлин, тут же вызвали меня в раздевалку и сказали: «Послушай, Фейнман, мы хотим, чтобы ты понял: мы-то понимаем, что сегодня вечером Арлин – с тобой, и мы не намерены тебя из-за нее донимать. Она для нас табу», – и прочее в том же духе. Но почти тут же не кто-нибудь, а именно они принялись со мной соперничать и приглашать ее на танец! Я постиг смысл шекспировской фразы «По-моему, ты слишком много обещаешь»[4].
Вам надо бы представить себе, каким я тогда был. Я был очень застенчивым и постоянно испытывал неловкость от того, что все остальные были крепче меня, и постоянно боялся показаться неженкой. Все остальные играли в бейсбол; все остальные занимались всеми видами спорта. Если где-то играли и мяч выкатывался на дорогу, я застывал как вкопанный, только бы не пришлось бежать за ним и бросать обратно – потому что, если бы я его бросил, он отклонился бы на радиан от нужного направления и улетел далеко в сторону! А потом все смеялись бы. Это было ужасно, и я из-за этого был очень несчастен.
Однажды меня пригласили на вечеринку в доме Арлин. Там собрались все, ведь Арлин была самой популярной девушкой в округе: она была номер первый, самая очаровательная девушка, и всем нравилась. Ну вот я сижу в большом кабинетном кресле, не зная, чем себя занять, и тут подходит Арлин и садится на подлокотник, чтобы поговорить со мной.
И я впервые почувствовал: «О Боже! Мир прекрасен! Та, что мне нравится, обратила на меня внимание!»
В те дни в Фар-Рокуэй при еврейском общинном центре существовал молодежный клуб для еврейских детей – большой клуб с множеством секций. Там была писательская секция – в ней писали рассказы и зачитывали их друг другу; секция драмы, в которой ставили пьесы; естественно-научная секция и художественная секция. Меня, кроме естественных наук, ничего не интересовало, но Арлин ходила в художественную секцию, и я тоже туда записался. Я мучился с заданиями – учился делать гипсовые маски и прочее, и прочее (как выяснилось впоследствии, это часто оказывалось для меня полезным в жизни) – только так я мог остаться в той же секции, что и Арлин. Но у Арлин в секции был парень, Джером, и у меня никаких шансов не было. Я лишь маячил где-то на заднем плане.
Как-то раз в мое отсутствие кто-то предложил выбрать меня президентом молодежного центра. Старшие задергались – ведь к тому времени я уже фактически объявил себя атеистом. Я был воспитан в традициях иудаизма – наша семья каждую пятницу ходила в синагогу, меня отправили в так называемую «воскресную школу», и я даже какое-то время изучал иврит, – но в то же самое время отец рассказывал мне об окружающем мире. Когда я слышал, как раввин рассказывает о каком-нибудь чуде – например, про куст, листья которого дрожали, а ветра не было, – я пытался приспособить это чудо к реальному миру и объяснить его в терминах явлений природы.
Одни чудеса понять было легче, другие – сложнее. С листьями все было просто. Когда я шел в школу, я услышал негромкий шелест: несмотря на то что ветра почти не было, листья на кустарнике чуть-чуть шевелились, потому что находились как раз в нужной позиции, чтобы войти в резонанс. И я подумал: «Ага! Вот правильное объяснение видения Илии куста дрожащего!»
Но некоторые чудеса мне так никогда и не удалось прояснить. Например, историю о том, как Моисей бросает наземь свой посох и тот превращается в змею. Я не мог разгадать, что должны были увидеть свидетели, чтобы подумать, будто посох сделался змеей.
Если бы я мысленно вернулся к тем временам, когда был гораздо младше, то ключ мне, возможно, дала бы история Санта-Клауса. Но в те годы это не поражало меня до такой степени, чтобы вызвать хотя бы возможность сомнения в истинности историй, не соответствующих законам природы. Узнав, что Санта-Клауса в действительности не существует, я не расстроился; скорее испытал облегчение, что существует гораздо более простое явление, объясняющее, каким образом великое множество детей во всем мире в одну и ту же ночь получают подарки!
История делалась все более запутанной – она выходила за все рамки.
Санта-Клаус относился к некоей семейной традиции, мы так отмечали праздник, и это было не слишком серьезно. Но чудеса, о которых я слышал, соотносились с реальными вещами: с синагогой, куда люди приходили каждую неделю; с воскресной школой, где раввины рассказывали детям о чудесах; это было куда как более существенно. Санта-Клаус не затрагивал таких крупных организаций, как общинный центр, который, как я знал, был реален.
А ведь я, пока ходил в воскресную школу, верил всему, и мне было трудно все это увязать. Но разумеется, рано или поздно в итоге должен был случиться кризис.
И кризис случился, когда мне было лет одиннадцать-двенадцать. Раввин рассказывал нам об испанской инквизиции, во время которой евреи перенесли страшные мучения. Он рассказал нам об одной женщине по имени Руфь: что – как предполагалось – она сделала, какие доказательства были в ее пользу, какие против нее, – и все это так, будто оно было задокументировано в судебных отчетах. А я был всего лишь невинным ребенком, который слушал весь этот вздор, считая, что это реальные хроники – раввин ведь не сказал, что это не так.
В финале раввин стал описывать, как Руфь умирала в тюрьме: «И она думала, умирая» – бла-бла-бла.
Меня это потрясло. Когда урок закончился, я подошел к нему и спросил:
– Как они узнали, что она думала, умирая?
Он говорит:
– Ну, историю Руфи мы, конечно, сочинили сами, чтобы более наглядно объяснить, как пострадали евреи. На самом деле такого человека не существовало.
Это было для меня уже слишком. Я чувствовал себя ужасно обманутым: мне хотелось честную историю – которую никто не делал «более наглядной», – чтобы я сам мог решить, что это значит. Но со взрослыми мне было спорить трудно. На глазах у меня выступили слезы. Я настолько расстроился, что даже заплакал.
– Что случилось? – спросил он.
Я попытался объяснить:
– Я слушал все эти истории, а теперь я не знаю, все ли, что вы мне рассказывали, было правдой и что из этого было неправдой! Я не знаю, как быть со всем тем, что я выучил! – Я попытался объяснить, что в одно мгновение утратил все, потому что больше не был уверен в данных, если можно так сказать. Я тут изо всех сил старался понять все эти чудеса, а теперь… ну, это объясняло множество чудес, ладно! Но я был несчастен.
– Если тебя это так травмирует, – сказал раввин, – зачем ты ходишь в воскресную школу?
– Потому что родители меня сюда отправили.
С родителями я об этом ни разу не говорил и ни разу не спрашивал, общался с ними раввин или нет, но больше они меня туда ходить не заставляли. А случилось это как раз перед тем, как я должен был пройти конфирмацию[5].
Во всяком случае, этот кризис довольно быстро разрешил мои трудности в пользу теории, что все чудеса – истории, выдуманные для того, чтобы помочь людям понять что-то «более наглядно», даже если это и противоречит явлениям природы. Однако сама природа казалась мне настолько интересной, что я не хотел, чтобы ее искажали. Так я постепенно пришел к неверию во всю религию вообще.
Как бы то ни было, еврейские старейшины организовали этот клуб со всеми секциями не только затем, чтобы оградить нас, детей, от улицы, но и чтобы воспитать в нас интерес к еврейскому образу жизни. Поэтому, если бы такого, как я, избрали президентом, они оказались бы в очень неловком положении. К нашему взаимному облегчению, меня не избрали, но центр в конечном итоге все равно закрылся – когда меня выдвинули, к этому уже все шло, и если б меня избрали, то, разумеется, в его развале обвинили бы меня.
В один прекрасный день Арлин сказала мне, что Джером больше не ее парень. Их ничто не связывает. Я был страшно взволнован, для меня это стало началом надежды. Она пригласила меня к себе домой – в соседний Седархерст, на Вестминстер-авеню, 154.
Когда я в тот раз пошел к ней в гости, было темно и свет у входа не горел. Я не мог разглядеть цифры. Не желая беспокоить никого расспросами, тот ли это дом, я тихонечко подкрался и ощупью разобрал номер на двери: 154.
Арлин пожаловалась на трудности с домашней работой по философии.
– Мы проходим Декарта, – сказала она. – Он начинает с «Cogito, ergo sum» – «Мыслю, следовательно существую», – а заканчивает доказательством бытия Божия.
– Это невозможно! – сказал я, ни на мгновение не задумавшись о том, что усомнился в великом Декарте. (Такой реакции я научился от отца: не испытывать ни малейшего уважения к авторитетам; забыть, кто это сказал, а вместо этого посмотреть, с чего он начинает, чем заканчивает, и спросить себя: «А разумно ли это?») – Как можно вывести одно из другого? – спросил я.
– Не знаю, – ответила она.
– Ладно, давай проверим, – сказал я. – Какие аргументы?
Итак, мы проверяем и видим, что утверждение Декарта «Cogito, ergo sum» должно означать, что единственное, чего нельзя подвергнуть сомнению, – это сомнение как таковое.
– Почему он просто не говорит этого прямо? – посетовал я. – Он просто так или иначе хочет сказать, что существует единственный факт, который ему известен.
Затем он идет дальше и говорит примерно так: «Я могу представить лишь несовершенные мысли, но несовершенное можно оценить лишь по отношению к совершенному. Следовательно, где-то должно существовать совершенное». (Теперь он движется в направлении Бога.)
– Вовсе нет! – говорю я. – В науке можно говорить об относительных степенях приближения, не имея совершенной теории. Не понимаю, о чем тут речь. По-моему, это просто-напросто чушь.
Арлин меня поняла. Проверив это, она поняла: не важно, насколько убедительными и серьезными считаются все эти философские благоглупости, к ним надо относиться легко – надо думать о словах и не беспокоиться о том, что это сказал сам Декарт.
– Ну, мне кажется, неплохо будет рассмотреть другую сторону вопроса, – сказала она. – Учитель нам постоянно говорит: «У любой проблемы, как и у любого листа бумаги, имеются две стороны».
– И здесь тоже имеются две стороны, – сказал я.
– Как это?
О листе Мёбиуса я прочитал в «Британнике», в моей чудесной «Британнике»! В те дни такие штучки, как лист Мёбиуса, были не столь широко известны, но понятны они были точно так же, как нынешним детям. Существование такой поверхности очень реально: не то что какой-нибудь там невразумительный политический вопрос или что-нибудь такое, для понимания чего требуется знание истории. Читать о таких вещах было все равно что переноситься в страну чудес, о которой никто не знает, и тебя пьянит не только восторг от изучения самого предмета, но и ощущение того, что ты сам становишься уникальным.
Я взял лист бумаги, перекрутил его на середине и замкнул в кольцо. Арлин была в восторге.
На следующий день в классе она подловила своего учителя. Он, разумеется, берет листок бумаги и говорит: «У любой проблемы, как и у любого листа бумаги, имеются две стороны». Арлин поднимает свой лист бумаги – перекрученный на середине – и говорит: «Сэр, две стороны имеются даже у этой проблемы: существует бумага, у которой есть только одна сторона!» Учитель и весь класс страшно заинтересовались, и Арлин, словно фокусник, торжественно продемонстрировала им лист Мёбиуса. Думаю, именно благодаря этому она стала уделять мне больше внимания.
Но после Джерома у меня появился новый соперник – мой «добрый друг» Гарольд Гаст. Арлин всегда находила то или иное решение. Когда пришло время окончания школы, на выпускной вечер она пошла с Гарольдом, но на церемонии вручения дипломов сидела с моими родителями.
Я был лучшим по естественным наукам, лучшим по математике, лучшим по физике и лучшим по химии, и поэтому много раз за вечер выходил на сцену и получал почетные грамоты. Гарольд был лучшим по английскому языку и лучшим по истории, и еще он написал школьную пьесу, так что это было очень внушительно.
По английскому я учился ужасно. Я терпеть не мог этот предмет. Мне казалось смешным беспокоиться, напишешь ты что-то правильно или нет, ведь английская грамматика – всего-навсего договоренность между людьми, она не имеет ни малейшего отношения к чему-то реальному, к законам природы. Каждое слово можно с таким же успехом написать и по-другому. Вся эта ерунда с английским меня дико раздражала.
В штате Нью-Йорк каждый ученик средней школы должен был сдать ряд экзаменов, они назывались государственными. За несколько месяцев до этого, когда все мы сдавали госэкзамен по английскому, Гарольд и еще один мой литературно одаренный друг, Дэвид Лефф – редактор школьной газеты, – спросили меня, какие книги я выбрал для сочинения. Дэвид выбрал что-то из Синклера Льюиса с глубоким социальным смыслом, а Гарольд – какого-то драматурга. Я сказал, что выбрал «Остров сокровищ», потому что мы проходили эту книгу в первый год обучения английскому, и рассказал им, что я написал.
Они засмеялись: «Да ты полностью провалишь экзамен, если будешь нести такую элементарную чушь о такой простенькой книжечке!»
Еще там был список вопросов для эссе. Я выбрал себе «Важность науки в авиации». Я подумал: «Что за дурацкий вопрос! Важность науки в авиации очевидна!»
Я уже было собрался написать по этому дурацкому вопросу что-нибудь попроще и тут вспомнил, что мои литературно одаренные друзья всегда лили воду – выстраивали предложения так, чтобы казаться умными и искушенными. Я решил попробовать это, чисто на удачу. Я подумал: «Если экзаменаторам хватило ума предложить такую тему, как важность науки в авиации, я им покажу».
Итак, я написал всякую чушь наподобие: «Аэронавигационная наука важна для анализа турбулентностей, завихрений и вихревых потоков, формирующихся в атмосфере позади самолета…» Я знал, что турбулентности, завихрения и вихревые потоки – одно и то же, но упомянуть это тремя различными способами звучит лучше! Это был мой единственный неординарный ход на том экзамене.
Все эти турбулентности, завихрения и вихревые потоки, должно быть, произвели сильное впечатление на преподавателя, проверявшего мою работу, потому что на этом экзамене я получил 91 балл – в то время как мои литературно одаренные друзья, выбравшие темы, по которым преподаватели английского могли с большей легкостью найти ошибки, оба набрали по 88. В том году вышло новое правило: если ты набираешь на госэкзаменах 90 или более баллов, ты автоматически получаешь по этому предмету почетную грамоту на выпускном вечере! И вот в то время как драматург и редактор школьной газеты должны были сидеть на своих местах, этого безграмотного дурачка, студента-физика, снова вызвали, чтобы вручить ему грамоту по английскому языку!
После церемонии вручения дипломов Арлин была в зале с моими родителями и родителями Гарольда, и тут появился заведующий отделением математики[6]. Он был очень мощного сложения – а еще жуткий педант, – высокий такой, видный мужчина. Миссис Гаст говорит ему:
– Здравствуйте, доктор Огсберри. Я мама Гарольда Гаста. А это – миссис Фейнман…
Не обращая ни малейшего внимания на миссис Гаст, он тут же поворачивается к моей маме:
– Миссис Фейнман, я хочу, чтобы вы поняли: такие молодые люди, как ваш сын, встречаются очень нечасто. Государство должно поддержать такого талантливого человека. Вы должны проследить, чтобы он поступил в институт, лучший институт, какой вы можете ему обеспечить! – Он боялся, что родители не планируют отправлять меня в институт, потому что в те дни многие дети вынуждены были сразу после школы идти работать, чтобы помочь содержать семью.
Именно так и вышло с моим другом Робертом. У него еще была лаборатория, и он учил меня всему, что связано с линзами и с оптикой. (Однажды с ним в лаборатории произошел несчастный случай. Он открывал карболовую кислоту, бутыль дернулась, и ему плеснуло кислотой в лицо. Он пошел к врачу и пару недель ходил весь забинтованный. Странное дело: когда с него сняли повязки, кожа под ними оказалась совершенно гладкая, лучше, чем прежде, – на ней было гораздо меньше прыщиков. После этого я выяснил, что какое-то время существовал метод ухода за кожей с применением карболовой кислоты, только в более слабом растворе.) Мать Роберта была бедна – ему пришлось сразу устроиться на работу, чтобы ее содержать, и он не смог продолжить занятия наукой.
Но как бы то ни было, моя мама заверила доктора Огсберри:
– Мы экономим как можем и попытаемся отправить его в Колумбийский или Массачусетский технологический. – И Арлин все это слышала, так что в итоге я чуточку продвинулся вперед.
Арлин была чудесной девушкой. Она редактировала газету в средней школе им. Лоуренса округа Нассо; прекрасно играла на фортепьяно и была очень одаренная художественно. Она сделала несколько украшений для нашего дома – например, попугая, стоявшего внутри буфета. Со временем, когда наша семья познакомилась с ней поближе, она стала вместе с моим отцом – который, как и многие, занялся живописью уже в зрелом возрасте, – ходить в лес рисовать.
Мы с Арлин начали оказывать друг на друга взаимное влияние. Она жила в семье, в которой все были очень вежливыми и очень чувствительными к мнению других. Она и меня учила быть более чутким. С другой стороны, ее семья считала, что «ложь во спасение» – это нормально.
Я же считал, что нужно занимать позицию: «Не все ли равно, что думают другие?» Я сказал: «Разумеется, мы должны выслушать мнения других людей и учесть их. А потом, если эти мнения не обоснованны и мы думаем, что они не правы, отбросить их – и всё!»
Арлин тут же уловила суть. Ее легко было убедить, что мы в наших отношениях должны быть друг с другом абсолютно честными и говорить все прямо, с полной откровенностью. Это сработало замечательно, и мы полюбили друг друга очень крепко – такой любви, как эта, я больше не знал.
После того лета я уехал учиться в МТИ. (В Колумбийский университет я поступить не мог из-за еврейской квоты[7].) Я начал получать письма от своих друзей, в которых говорилось: «Видел бы ты, как Арлин гуляет с Гарольдом» или: «Она делает то и это, пока ты там в Бостоне совсем один». Ну и что, я снимал девушек в Бостоне, но они для меня ничего не значили, и я знал, что то же самое верно и в отношении Арлин.
Когда наступило лето, я остался в Бостоне работать в каникулы и занимался измерением трения. Компания «Крайслер» разработала новый метод полировки для получения суперфиниширования[8], и предполагалось, что мы проведем измерения, показывающие, насколько это лучше. («Суперфиниширование», как оказалось, не давало существенных преимуществ.)
Как бы то ни было, Арлин отыскала способ быть поближе ко мне. Она нашла работу на каникулы в Ситуэйте, милях в двадцати от Бостона, – ухаживать за детьми. Но мой отец беспокоился, что я слишком увлекусь Арлин и это выбьет меня из колеи с моими исследованиями, поэтому он ее отговорил – а может, он отговорил меня (я точно не помню). Те времена очень, очень отличались от нынешних. В те времена ты должен был до женитьбы проделать весь путь по карьерной лестнице.
В то лето мне всего пару раз удалось повидаться с Арлин, но мы пообещали друг другу, что поженимся, когда я закончу учебу. К тому моменту я знал ее уже шесть лет. В своей попытке описать вам, какой сильной стала наша взаимная любовь, я несколько косноязычен, но мы были уверены, что созданы друг для друга.
Окончив МТИ, я уехал в Принстон, а на каникулы вернулся домой, чтобы повидаться с Арлин. Однажды, когда я пришел с ней повидаться, я заметил у Арлин на шее сбоку какую-то шишку. Она была очень красивой девушкой, и это ее слегка расстроило, но шишка не причиняла боли, и потому она не считала это чем-то серьезным. Она пошла к своему дяде, который был врачом. Тот сказал, чтобы натирала шишку рыбьим жиром.
Затем, какое-то время спустя, шишка начала меняться. Она увеличилась – а может, уменьшилась, – и у Арлин поднялась температура. Температура росла, и домашний врач решил, что Арлин следует лечь в больницу. Ей сказали, что у нее брюшной тиф. Я тут же, как делаю это и сейчас, принялся искать заболевание в медицинских книгах и прочитал о брюшном тифе все, что только можно.
Когда я пришел навестить Арлин в больнице, она лежала в карантине – перед тем как войти к ней в палату, надо было надевать специальную одежду и все такое. Там был врач, и я его спросил, каковы результаты теста Видаля – это был абсолютный тест на брюшной тиф, который включал в себя проверку на бактерии в кале. Он сказал:
– Реакция отрицательная.
– Что? Разве такое бывает? – сказал я. – Зачем тогда все эти медицинские халаты, если вы даже не можете опытным путем обнаружить бактерии? У нее, возможно, никакого брюшного тифа и нет!
Ну и в результате врач поговорил с родителями Арлин, и те велели мне не вмешиваться: «Врач, в конце концов, он. А ты только ее жених».
Впоследствии я осознал, что такие люди сами не ведают, что творят, и чувствуют себя оскорбленными, если ты что-то им предлагаешь или высказываешь замечания. Теперь-то я это понимаю, но мне жаль, что тогда я не оказался сильнее и не сказал ее родителям, что доктор идиот – каковым он и являлся – и не ведает, что творит. Однако в тот момент ответственность за нее лежала на родителях.
Как бы то ни было, довольно скоро Арлин явно стало лучше: опухоль спала, лихорадка прошла. Но через нескольких недель опухоль появилась снова, и на сей раз Арлин пошла к другому врачу. Этот парень ощупывает ее под мышками, в паху и так далее и замечает, что там тоже появляются аналогичные опухоли. Он говорит, что проблема связана с лимфоузлами, но он пока не знает, какая именно это болезнь. Он будет консультироваться с другими врачами.
Услышав об этом, я тут же иду в Принстонскую библиотеку, ищу заболевания лимфатической системы и нахожу: «Опухоль лимфатических узлов. (1) Туберкулез лимфатических узлов. Диагностировать его очень легко…» – а следовательно, я решаю, что у Арлин что-то другое, раз врачи испытывают трудности в попытке это диагностировать.
Я начинаю читать о других заболеваниях: лимфаденема, лимфаденома, болезнь Ходжкина и прочее; все это – раковые образования того или иного кошмарного типа. Единственная разница между лимфаденемой и лимфаденомой состояла, насколько я смог понять после тщательного изучения, в следующем: если пациент умирает, это лимфаденома; если пациент живет – по крайней мере какое-то время, – это лимфаденема.