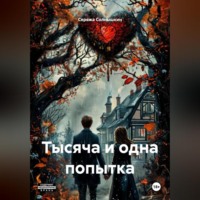Полная версия
Тысяча и одна попытка

Сережа Солнышкин
Тысяча и одна попытка
"Любовь – это не сказка со счастливым концом. Это дневник ошибок и исправленных строк."
Глава 1: Домой, к Теплу Бабкиному и Женской Тяге
Автобус плюнул меня на пыльную обочину как ненужную кость, выдохнув клуб дизельной вони. Я встал, ноги чуть подкосились от непривычной твердости мирной земли. Село. Мое. Родное. Три года, семь месяцев и восемнадцать дней не видел. А смотрит теперь, будто не спало, а умирало медленной смертью. Сердце сжалось тупой болью. Избы, помнившие меня пацаном, покосились, будто спина от непосильной ноши. Заборы, за которые мы прятались в "войнушке", рассыпались в труху. Даже собаки – те прежние, бойкие цепные псы – теперь лениво поднимали головы, гавкали разок для вида и затихали. Тишина. Не мирная, а мертвая. Гул тракторов, крики ребятни, бабий смех с огородов – все растворилось. Остался лишь шелест ветра в сухом бурьяне да гул в собственных ушах – не от близкого разрыва "Града", а от этой всепоглощающей, давящей тишины.
Домой? Щемящий вопрос ударил под дых. А дом-то где? Бабкин дом – тот самый, где я вырос после того, как родители в той аварии… – стоял чуть в стороне, и вид у него был такой же убитый, как у всего села. Крыша просела, шифер порос мхом, окна – мутные, слепые глаза. Мой дом. И я сам – Павел, 27 лет, бывший скотник местного колхоза, а ныне ветеран той спецоперации, что на Украине… – чувствовал себя таким же разбитым корытом. Пустым. Как та воронка после "прилета" – только внутри не осколки, а черная пустота, гудевшая от многомесячного ада и этой вот, нездешней тишины. И еще… еще дикая, животная тяга. Три года. Три года в мужском пекле – казарма, окоп, госпиталь. Три года грубости, мата, пота, крови и полного отсутствия женщины. Ни запаха, ни прикосновения, ни смеха. А хотелось… хотелось жены. Теплой, своей. Хотелось дочку – смешную, с косичками, чтобы смеялась звонко. Мечта, которая грела в окопе, когда смерть дышала в затылок. Мечта о своем очаге, о продолжении жизни, которую так легко могли оборвать там.
В груди – комок размером с кулак: сверху – щемящая радость, что жив, что ноги несут, что вижу это небо, пусть и серое; а внизу, глубже – тяжелая, горькая тоска. Тоска по тому, чего уже нет – по родителям, по шумной деревне, по своей прежней, простой жизни, где главной заботой было успеть подоить коров до рассвета. Тоска по нормальности. И еще – жгучее, нестерпимое желание женского тепла. Не просто секса – хотя и его хотелось до дрожи в коленях – а именно тепла. Ласки. Тихого слова. Чтобы рука женская коснулась по-настоящему.
Едва скрипнула калитка старого, покосившегося забора, как из избы метнулась тень. Бабка Агафья. Выглянула, вгляделась – и вылетела на крыльцо, будто ошпаренная кипятком, забыв про палку, про больные ноги. Маленькая, сгорбленная, вся в морщинах, как спелое яблоко. Бросилась ко мне, обхватила так, что кости затрещали, прижала мою щеку к своей старенькой телогрейке. Запахло сеном, печным дымком и чем-то бесконечно родным – детством.
"Пашенька! Радость ты моя! Родненький! Живой! Целый-целехонек!" – голос ее дрожал, слезы текли по щекам, оставляя блестящие дорожки на запыленной коже. Она гладила мои щеки, волосы, плечи, будто проверяя, не мираж ли.
Живой-то жив, бабуль… а целый ли? – пронеслось в голове. Там, внутри, все еще гудело. Рука сама потянулась к пачке сигарет. "Живой, бабуль, живой," – выдавил я сквозь комок в горле. Голос хриплый, непривычный к таким словам. Закурил, глубоко затягиваясь, стараясь унять дрожь в пальцах. Отвел глаза от ее радостного лица – на дом. На свой дом. Стыдно стало. Крыша – решето. Окна – ни одного целого стекла, кое-где фанера. Дверь скособоченная. Развалины. После бетонных коробок, где мы жили на передке, это казалось особенно убогим. Но это было мое. Единственное, что осталось.
"Ничего, бабуль," – брякнул я, похлопывая по толстому карману. Там лежали бумажники – наличка и карта. Деньги. Кровные. За риск, за боль, за каждый день в аду. За квартиру в райцентре или даже в городе хватило бы с лихвой. А тут, в этой глуши… тут и на новый дом, крепкий, с резными наличниками, хватило бы, и на баню, и на машину.
"Отстроим! Все заново! Дворец тебе выстроим!" – пообещал я, стараясь вложить в голос уверенность. Только бы руки не тряслись, когда кирпич класть буду… Только бы не вздрагивать от каждого хлопка…
Бабка смотрела на меня, не отрываясь, будто на чудо нерукотворное. Глаза ее, мутные от возраста, светились такой безмерной любовью и надеждой, что стало неловко. Она видела героя, сына, кормильца. А я… я чувствовал себя выжженной пустыней. И среди всех этих мыслей о доме, о бабке, о прошлом и будущем, настойчиво, как назойливая муха, жужжало одно простое, грубое желание: Мне бабы хочется. Жуть как. Не просто плоти – хоть и ее тоже, до боли – а того самого, женского тепла, которого так катастрофически не хватало три долгих года. Тепла, которое, как я наивно верил там, в окопе, ждет меня дома. Но дом был разрушен, а тепло… где его искать в этой вымирающей деревне?
Вечером собрались соседи. Человек десять, не больше. Все – седые, морщинистые, как высохшие яблоки. Самогон лился рекой, огурцы соленые хрустели на зубах. Я сидел, тупо жуя, чувствуя, как внутри все клокочет – от крепкого самогона, от трехлетнего воздержания, от этой невыносимой тяги к женскому теплу… Ан нет. Кругом – бабье старое, сморщенное. Тьфу ты…
И тут взгляд сам нашел ее. Маша. За пядьдесят, поди. Но не сплылась еще. Стояла чуть в стороне, как яркий мак на выжженном поле. Имя всплыло из глубин памяти, как пузырь со дна. Городская Маша. Та самая, что жила в соседнем доме лет пятьнадцать назад. Замужняя дама, важная, из города. Павел, тогда еще пацан, знал ее в лицо. Помнил, как они иногда приезжали сюда, в деревню, к каким-то своим родственникам на лето. И всегда с ними – девочка, кажется дочка, с двумя смешными, тугими косичками, торчащими в разные стороны.
Потом что-то случилось. То ли муж умер, то ли развелись – слухи ходили разные. И Маша с дочкой перестали появляться в деревне. Казалось, канули в прошлое навсегда. А сейчас…
Но даже тогда, подростком, Павел тайно восхищался ею. Особенно запомнилось одно: как он, прячась в кустах у речной заводи, подсматривал за ее купанием. Запекшиеся губы, учащенное дыхание – он видел, как вода стекает по ее спине, как обрисовывает мокрая рубаха (она купалась в ней) невероятно крепкую, сбитую фигуру – высокую грудь, узкую талию, округлые бедра. Это было тайное, жгучее знание, спрятанное глубоко внутри. И вот теперь…
На ней была облегающая красная блузка, так низко вырезанная, что открывала начало глубокой ложбинки между пышных, высоко вздымающихся грудей. Обтягивающая юбка до колен только подчеркивала округлость крепких, соблазнительных ягодиц, обещая ту самую упругость, что он когда-то лишь смутно угадывал сквозь мокрую ткань. Волосы темные, с благородной сединой – уж не те ли, что когда-то были гладко уложены, как у той девочки с косичками? – глаза – живые, темные, смотрели с какой-то затаенной усмешкой. А губы… губы были накрашены ярко-красным, влажно поблескивали в свете лампочки, как будто только что влажные от поцелуя или… как половые губы в предвкушении. Это была та самая Маша, мать той девочки? Сейчас в этом образе не было и тени былой чопорности, только та самая, магнетически притягательная плоть, что когда-то сводила с ума пацана из кустов.
Она поднесла стакан самогона ко рту, выпила залпом, и кончик ее розового языка медленно, чувственно провел по нижней губе, собирая капли. Улыбка, загадочная и сводящая с ума, тронула уголки ее губ. Контраст между образом из детства – городская дама с косичкой дочери – и этой пышной, вызывающей, и, главное, доступной теперь женщиной, был ошеломляющим, как удар током.желание Самогон ударил в голову огненной волной, давняя тайная страсть слилась с мгновенным желанием, кровь хлынула вниз, к паху, затуманивая разум. Городская Маша, косички дочки, слухи о муже… все это расплылось, исчезло. Встал, шатаясь, как подкошенный. Подошел вплотную, запах ее духов смешался с перегаром, и с влажным запахом речной воды из далекого прошлого.
"Мария Ивановна? Спляшем?" – голос хриплый, чужим показался.
Она улыбнулась той же загадочной улыбкой, чуть прищурившись: "Ой, Павел, да я отвыкла… старею."
Но руку дала – теплую, мягкую. Притянул ее к себе резко, грубо. Пахло потом, духами и чем-то глубоко, первобытно женским. Ее упругая, тяжелая грудь мягко, но властно уперлась в мою грудную клетку. Низ живота – теплый, податливый – прижался прямо к моей ширинке, где уже бугрилось, росло напряжение. Охренеть… И тут же – мощный, неудержимый толчок в паху. Встал колом, каменным, давящим на швы. Три года… три года ничего живого, теплого! Руки задрожали, дыхание перехватило, в ушах зашумело. Сарай… Там темно… Там можно…
Еще на танцах, когда кружили под старый магнитофон в душном мареве толкотни и пота, я, обезумев от близости, от густого запаха ее духов, пота и самогона, от вида этих манящих красных губ, наклонился к ее уху. Губы почти касались мочки, горячее дыхание обжигало кожу. Голос сорвался на хриплый, прерывистый шепот, полный отчаяния и похоти: "Маш… Дай… Дай хоть грудь твою… потрогать… Хоть разок… Умоляю…" Она не ответила словами, только густо покраснела до самых корней волос, но и не отстранилась. Наоборот, ее тело словно подалось навстречу. И когда моя дрожащая, потная рука, пользуясь темнотой и пляшущими телами, робко, а потом жадно скользнула под ее красную блузку, нащупав под тонкой тканью лифчика теплый, упругий бугор соска, она лишь глубже, всем телом прижалась ко мне, издав тихий, сдавленный стон-ах. Этот миг – ее молчаливое, всем телом данное согласие, эта недоступная прежде плоть под моей ладонью, ее стон – свели остатки разума окончательно. Темнота сарая звала как спасение.
Сам не помня как, почти потащил ее за руку в сени. Деревянные половицы под ногами заскрипели жалобно. Потом – нырнули во тьму сарая. Густой, затхлый воздух ударил в нос: пыль, старое прогорклое дерево, сладковатый дух прошлогоднего сена. Ослепший от темноты и чего-то другого, прижал ее к шершавой стене, грубо, не разбирая дороги. Она вскрикнула – коротко, глухо. Губы сами нашли ее шею, впились. Кожа соленая, теплая, чуть влажная от пота. Слышал, как учащенно бьется под ней жилка.
"Пашка! Ты чо?! Очумел совсем?! А люди увидят!" – зашипела она прямо в ухо, горячим шепотом. Но руки ее – вот же они, цепкие, с коротко ногтями – не отпихивали, а вцепились в мои плечи, впились в мякоть мышц так, что больно стало.
"Не могу… – прохрипел я, задыхаясь, губы скользили по ее ключице. – Три года… Три чёртовых года… Бабка… Глаза бы мои не глядели… Машенька…" Мысль о том, как она разрешила прикоснуться тогда, на танцах, лишь распалила меня сильнее.
Рука моя, словно чужая, живая тварь, полезла под ее красную блузку. Нащупал горячее, упругое под тканью. Шершавая тесьма лифчика. Она резко вдохнула, ахнула, но не остановила, как не остановила и тогда. Пальцы нащупали крючок – дрожали, скользили. Рванул лифчик вниз, и грудь тяжело, по-хозяйски вывалилась мне в ладонь. Горячая, живая, тяжесть такая – дух перехватило. Соски крупные, как спелые ягоды, твердые бугорки под пальцами. Мать честная… Господи… Другой рукой юбку, задрал выше пояса. Трусы – простые, хлопкоаые. Палец легко, как по маслу, проскользнул под тонкую резинку. Нащупал густую, вьющуюся щетину и под ней – влажное, обжигающе горячее лоно. Готово… Все готово…
"Дурак… ну чего ждешь-то?! Быстрей же… – прошептала она вдруг, и голос дрожал, но не от злости. Ее рука суетливо, нервно помогла мне стащить трусы до колен. – Чего разнюнился? А то сейчас хватятся!"
От ее слов, от этого шепота, от ее помощи – всё внутри оборвалось. Штаны шлепнулись на пыльный пол. Одно движение бедер – резкое, безоглядное. Вошел в нее вначале с головку, как бы ошупывая вход, потом единым порывом, одним глубоким, рвущим всё внутри толчком. Тесно… Горячо… Влажно… Как в печи… Как в самом раю… Она резко вскрикнула – не от боли, нет, – глухо, сдавленно, как будто под водой. Обвила меня ногами крепко, притянула к себе всей силой. Движения мои заплясали сами – дикие, короткие, как у зверя в силке. Духота сарая, терпкий запах ее пота и чего-то женского, незнакомого, въедливый дух самогона изо рта и дикое, клокочущее, копившееся годами напряжение – всё смешалось, крутилось вихрем. Сейчас… Сейчас же… Сжал ее грудь до боли, впился губами в соленую шею, зарычал что-то нечленораздельное, и… Кончил, как пацан необстрелянный, через десяток этих судорожных толчков. Горячая волна обожгла кожу изнутри. Стыд и облегчение пополам. Обмяк на ней, тяжело дыша в ее волосы.
"Ну ты и скотина… Е-мае… – кряхтела она, высвобождаясь, поправляя юбку. Лифчик застегнуть не могла – руки тряслись, как в лихорадке. – Всю юбку помяла… Пойду подмоюсь… Фу… Воняем оба, как свиньи после бани." Шаркнула босыми ногами по полу, пошла к выходу. Но на пороге оглянулась. В щель света из сеней блеснули зубы в короткой, смущенной улыбке. Не злится… Слава тебе, Господи… И глаза, казалось, смеялись сквозь усталость.
Позже проводил ее. У калитки, в липкой темноте, она пробормотала:
"Ну, спасибо…"
Но когда она сделала шаг, нога ее подвернулась на кочке. Не раздумывая, подхватил ее на руки – легкую, податливую.
"Ба! Да я сама!" – всплеснула она руками, но обвила мою шею.
"Не сама! Ногу подвернула – вижу!" – буркнул я и понес к избе. Дверь поддалась плечом. В сенцах нащупал выключатель. Лампа под потолком мигнула и залила кухню желтым, немигающим светом.
Она стояла посреди горницы, смущенная, отводя взгляд. Но при свете… при этом резком, беспощадном свете… она была совсем другая. Не баба из сарая, не бабка, что мерещилась все три года. Совсем не бабка. Женщина. Настоящая, молодая, смущенная своей притягательной красотой под моим взглядом, Женщина.
"Машенька…" – выдохнул я, и шагнул к ней. Руки сами потянулись к её блузке. Она не сопротивлялась, только шептала:
"Павел… да что ты… ну полно…" – но пуговицы расстегивались легко, одна за другой. Блузка сползла на пол. Пальцы нашли застежку лифчика – маленькую, капризную. Щелчок. И груди – те самые, тяжелые, хозяйские, что запомнились по сараю – освободились. Я не мог оторвать глаз. Кожа на них была светлее, чем на лице и руках, бархатистая. Соски, крупные, темно-розовые, уже набухли, напряглись от холода или от моего взгляда. Я провел большим пальцем по одному – он тут же стал еще тверже, будто камешек. Машенька вздрогнула, губы ее дрогнули.
Юбка упала следом, простой ситцевой волной. Остались только трусы – те самые,, хлопковые. Я присел на корточки, взялся за резинку. Она замерла. Трусики сползли по полным, чуть загорелым ногам. И она стояла передо мной. Вся.
Воздух перехватило. Я упал на колени, как подкошенный. Руки обхватили ее бедра, лицо прижалось к теплому, плоскому животу. Кожа там была нежная, почти прозрачная, с легким пушком. Пахло ею – чистым телом, потом, и чем-то неуловимо сладким, женским. Потом взгляд скользнул ниже. К тому самому месту.
И тут меня настигло настоящее изумление. Вместо густого, нестриженого леса, который я почему-то ожидал увидеть (откуда эта мысль? от бабкиных намеков? от деревенских пересудов?), был аккуратный, маленький треугольник. Волосы коротко подстрижены, почти пушок, оттеняющий нежную кожу лобка. Чисто. Ухоженно. Совсем не по-деревенски. Странно… Для кого она так следит? Мысль эта кольнула ревностью, но тут же потонула в волне вожделения. Эта стриженая нежность, этот намек на скрытую городскую жизнь сводили с ума. Я прильнул губами к теплой коже над треугольником, вдохнул глубже ее запах. Машенька вздрогнула, рука ее легла мне на затылок.
Больше не было сил ждать. Я поднял ее – она обвила меня ногами – и понес к кровати в углу.
Все было иначе, чем в сарае. Медленнее. Пьянее от близости, от света, от этого неожиданного открытия ее тела. Жарче. Я ласкал ее груди, не торопясь, чувствуя под пальцами их вес, упругость, как налитые спелые дыни. Целовал соски, водил по ним языком, чувствуя, как они каменеют, слушая ее прерывистое дыхание. Потом спустился ниже. Целовал живот, впадину пупка. Снова – к тому трепещущему треугольнику. Вдыхал ее запах, целовал нежную кожу вокруг. Она застонала глухо, протяжно, и ее бедра приподнялись навстречу.
"Да… – прошептала она, гладя мои волосы. – Там…"
Я послушался. Язык нашел влажную теплоту, нежную складку. Она выгнулась дугой, вскрикнув, пальцы впились в простыню. Потом потянула меня вверх, к себе, глаза темные, полные нетерпения.
"Медленнее… – прошептала она, направляя меня рукой. – Не торопись…"
Я вошел. Тесно, влажно, глубоко. Не рванул, как тогда, а погружался постепенно, чувствуя каждую складку, каждое ее содрогание. Двигался плавно, долго, в такт ее стонам, которые теперь были не сдавленными, а открытыми, грудными. Кончил глубоко, вложив в нее всю накопленную нежность и боль. Она сжала меня изнутри, как бы удерживая. Лежали потом, слипшиеся, дыша в унисон, и мир сузился до тепла ее тела под моей рукой, до стука наших сердец. Вот она, жизнь. Настоящая.
*****
День за днем – шум рубанка, стук молотка, едкая пыль штукатурки, въедающаяся в ноздри и оседающая седым налетом на ресницах. Ремонт бабкиного дома втянул меня, как воронка. Сперва – тупое, механическое движение: таскать кирпичи, колотить, шкурить. Руки, привыкшие к автомату и лопате сапера, неловко орудовали стамеской, но память мышц из далекого пацанья, когда помогал отцу, потихоньку возвращалась. Каждый удар молотка по гвоздю – отзвук в тишине села, каждый скрип пилы по свежей доске – аккорд в симфонии возрождения.
Деньги, честно заработанные кровью и страхом там, таяли, как снег на проталине. Пересчитывал пачки наличных, ощущая их вес – не бумажный, а вес риска, вечного недосыпа, грохота "градов". Отдавал за цемент, за краску, за новые стекла, взамен выбитых временем и ветром.
Но глядя, как светлеет лицо моей бабушки – не от побелки на стенах, а изнутри, от чистоты и порядка, вползающих в ее ветхий, много повидавший мир, думалось: оно того стоит. Хоть ей будет легче. Легче дышать в этих стенах, помнящих столько горя – войну, потерю мужа, смерть моего отца, ее сына, долгие годы одиночества. Стены, пропитанные дымом печи и тихими слезами, будто сами расправляли плечи, сбрасывая груз запустения.
Работа была тяжкой. Павел не один горбил спину: он нанял бригаду – ребят бывалых, с мозолистыми руками и спокойным взглядом знающих свое дело людей. Они споро разобрали старую, прогнившую крышу, сменили стропила и аккуратно уложили новую кровлю. Поставили крепкие деревянные окна – Павел наотрез отказался от пластика: "Только дерево, чтоб дышало". И хотя парни работали споро и качественно, Павел не отсиживался. Он был тут же – то подаст, то придержит, то сам возьмется за самое черное, чтобы не отставать. Спина ныла к вечеру, пальцы стирались в кровь о наждак, старые балки предательски скрипели, не желая уступать новым. Но в этой общей физической усталости была странная, почти медитативная ясность. Не надо думать о засадах, о минах-растяжках, о криках "Саня, держись!" в рацию. Только доска. Только уровень. Только ровный шов штукатурки. И бабка Агафья, как тень тихой радости, – то поднесет кружку парного молока всем работягам, то перекрестит своего внука со спины, шепча что-то доброе, то просто сядет на крылечке и смотрит, как ее солдат, ее последняя надежда, вместе с надежными людьми возвращает к жизни их общий кров.
Каждый очищенный от грязи и паутины угол, каждый застекленный проем, пропускавший раньше лишь холод и сырость, каждый новый квадрат чистого пола – это была не просто реконструкция дома. Это была попытка залатать дыры в собственной душе, стереть копоть войны, вернуть хоть крупицу той простой, мирной жизни, о которой так безумно мечталось в окопах под обстрелом. Деньги таяли, но с каждым вбитым гвоздем, с каждым взглядом бабки, полным немой благодарности, таял и тот ледяной комок тоски и отчужденности, что привез я с собой, как незваный багаж, с той проклятой войны. Здесь, среди стружек и пыли, под стук молотка и тихое бормотание бабули, я медленно, по кирпичику, строил не только дом, но и мост обратно – в жизнь.
Но ночь… Ночь принадлежала ей. Маше.
Когда солнце клонилось за горизонт, а в деревне гасли последние огни, мир сжимался до тепла ее дыхания, до шепота, который тонул в гуле ночного ветра за стенами. Сеновал, где сухое сено шелестело под их телами, где каждый вдох был густым и сладким от пыльной травы, а их пот, смешиваясь, оставлял на коже солоноватый след. Здесь, под низкой крышей, среди стогов, они были невидимы для всего мира – только звезды, пробивающиеся сквозь щели, знали их тайну.
Баня – другая вселенная, где время текло иначе. Где пар, густой и обжигающий, обволакивал их, как второе тело, где капли воды скатывались по разгоряченной коже, оставляя за собой дрожь. Ее стоны – негромкие, сдавленные – растворялись в шипении воды на раскаленных камнях. Он запоминал каждый звук, каждый вздох, каждый стук ее сердца, прижатого к его груди. Здесь, в этом жарком полумраке, не было ни войны, ни страха, ни прошлого – только два тела, два голоса, два пульса, слившихся в один.
А потом – ее кровать. Узкая, скрипучая, с продавленным матрасом, ставшая для него святыней. Здесь, в этой тесноте, он находил то, чего не мог дать себе сам: покой, принятие, забытье. Ее пальцы, вьющиеся в его волосах, ее губы, шепчущие что-то несвязное, ее тело, принимающее его так, будто он не солдат с израненной душой, а просто человек, который имеет право на нежность.
И когда рассвет уже синел за окном, а деревня потихоньку пробуждалась, он лежал, прислушиваясь к ее ровному дыханию, и думал, что, может быть, это и есть спасение – не громкое, не героическое, а тихое, простое, как ее рука в его руке.
Поначалу было только это: спутанность чувств, вспышка давнего желания и острая, почти болезненная потребность. Он был неуклюж, торопился, как мальчишка. Руки дрожали, губы искали ее губы скорее с растерянной жаждой, чем с умением. В эти первые мгновения была неловкая нежность: его прикосновения к ее лицу, попытки замедлиться, смутное ощущение хрупкости того, что они делали. "Маша…", – шептал он, и в этом звучало что-то большее, чем просто страсть.
Но иногда – и это случалось все чаще – тень накрывала его. Глаза теряли фокус, дыхание становилось резким, звериным. Тогда ему казалось, что он снова там. Что время сжато в кулак, что надо успеть, пока не грянуло, пока не нашли. В эти секунды нежность испарялась. Он входил в нее уже не как влюбленный, а как солдат, штурмующий позицию – резко, требовательно, с хриплым напряжением в голосе: "Раздвинь! Да, вот так… крепко… Держись!" Пальцы впивались в бедра не для ласки, а чтобы зафиксировать, удержать "цель". Зубы могли прикусить плечо в порыве, который сам не контролировал.
Маша чувствовала этот перелом. Чувствовала, как его тело каменеет, как исчезает тот смущенный парень. Она стискивала зубы, принимая эту грубость, этот внезапный натиск. Не потому что ей это нравилось, а потому что понимала – сквозь нее он бьется с призраками. Ее тело реагировало по-своему: спина выгибалась навстречу даже этим жестким толчкам, влага предательски лилась рекой – отчаяние смешивалось с физиологией. А когда его палец, движимый не лаской, а слепым инстинктом, нащупывал ее клитор, она содрогалась всем телом, издавая сдавленный, прерывистый стон, и бессознательно вжималась в него глубже – тело искало хоть какого-то выхода, хоть какого-то пика, даже в этом хаосе.
"Кончаешь? А?" – его голос звучал чужим, глухим, как из траншеи. Вопрос был не издевкой, а скорее проверкой реальности, попыткой понять, где он. И она не отрицала, лишь глуше стонала, пряча лицо в подушку, принимая и этот всплеск его боли. Она терпела, потому что видела за этим – израненного парня, который помнил ее и пытался, пусть коряво, найти в ней спасение.
*****
Однажды, лежа в сене после долгого, почти неспешного соития, воздух был густым от их дыхания и запаха нагретой соломы. Тишина висела между ними, плотная, зыбкая. Он водил пальцем по ее мокрой щели, чувствуя, как она пульсирует под его прикосновением – отзвук недавней близости, знакомая теперь жизнь ее тела. Эта близость, это знание обожгли его вдруг чем-то большим, чем просто желанием. Он замер, пальцы остановились. Глаза, привыкшие к темноте сарая, уставились в черноту стропил над головой, будто ища там слов.
"Знаешь…" – голос сорвался, хриплый от непривычной нежности и смущения. Он сглотнул. Слова, простые и страшные, комком встали в горле. Привязанность. Нужность. Тихое счастье. Как это выговорить человеку, которыйзнает только войну и боль? Как не испугать? Как не показаться дураком? Он ощущал ее тепло рядом, ее дыхание, и эта обыденность вдруг показалась невероятно хрупкой и драгоценной. "Я… кажись…" – он попытался снова, борясь с собственной косноязычностью, с грузом лет молчания. "Кажись, очень привык к тебе, Маш. К твоему теплу. К этому… спокойствию. Сильно." Последнее слово вырвалось почти сдавленно, как признание в слабости. Он замолчал, затаив дыхание, ожидая не столько ответа, сколько хоть какого-то знака, что она не отшатнется от этой его обнаженной слабости.