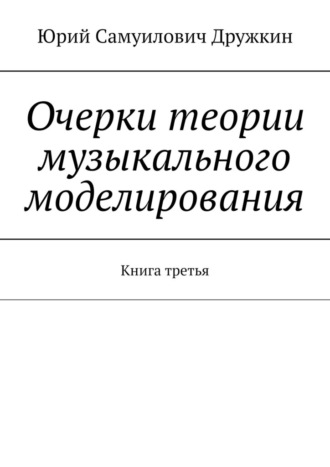
Полная версия
Очерки теории музыкального моделирования. Книга третья
Основными характеристиками квинты, привлекшей тогда моё внимание были а) универсальность, охват квинтовым рядом всей без исключения системы звуков, б) максимальная определенность, однонаправленность иерархии элементов.
Таким образом, можно сказать, что квинта также, как и октава моделирует некий тип отношений.
– Октава – равенство, эквивалентность (взаимозаменяемость), «равноправие».
– Квинта – четкая и однонаправленная иерархия, неравенство. А это уже некая смысловая бинарная оппозиция.
Если взять два звука квинты и вслушаться в их отношения с точки зрения устойчивости-неустойчивости, то мы, при прочих равных условиях определим нижний звук квинты (основание) в качестве устойчивого, а верхний (вершина) в качестве относительно неустойчивого. Положение нижнего звука есть положение покоя, отсутствия стремления куда-либо. Положение верхнего звука несет в себе потенцию к движению, к перемещению, причем именно на позицию нижнего звука. Ни один другой интервал не дает нам такой отчетливой и такой однозначной динамической картины.
Теперь применим к этому интервалу тот же подход, который мы опробовали в связи с октавой. Примем энергетический уровень нижнего звук квинты за ноль. В принципе, мы вправе сделать это без каких-либо особых обоснований. Ведь принятие за ноль (за систему отсчета) – действие условного характера. Чему тогда будет равна энергия верхнего звука? Исходя из всего вышесказанного, она будет отличаться от нуля. В какую сторону – в положительную и отрицательную? В силу того, что верхний звук квинты обнаруживает в себе определенное стремление переместиться в нисходящем направлении, его энергетическое значение естественнее определить в качестве положительной величины.
Мы видим еще одно отличие октавы от квинты. Октава внутри самой себя не содержит потенции к движению. Она – сфера покоя. Квинта содержит. Другое отличие в том, что октава не содержит в себе иерархии, неравенства, направленности в том или ином определенном направлении. Квинта в себе всё это содержит.
Итак, примем энергию основания квинты за ноль. Чему будет равна энергия вершины квинты? Некоторой положительной величине. Условно примем её за единицу.
Пусть до1 – основание квинты. Её энергия равна 0. Соль1 – вершина квинты. Её энергия, согласно нашим рассуждениям, равна +1. А если энергию Соль1 принять за 0, то какова будет энергия до1? Очевидно, то -1. Элементарная арифметика. Столь же элементарная арифметика позволит нам определить энергию соль2 относительно до1. Ведь расстояние от соль1 до соль2 равно октаве. Энергия октавы равна нулю. Следовательно, энергия соль2 также, как и энергия соль1 будет равна +1.
Возможность производить эти нехитрые расчеты очень радовала. А как обстоит дело с другими звуками? Можно ли определить и их энергию? Оказалось, что можно. Ведь мы знаем, что музыкальная система построена таким образом, что от любого звука до любого другого можно добраться перемещаясь исключительно по квинтам и октавам. А энергию (разность энергетических потенциалов) и квинты, и октавы мы уже знаем. Значит, последовательно суммируя энергии всех посредствующих интервалов, мы получим искомое значение. Например, от до1 до ре1 можно дойти следующим образом: до1 – соль1 – ре2 – ре1. Тогда до1 – 0, соль1 – 1, ре2 – 2, ре1 – 2. Итак от любого к любому звуку. Такова структура музыкальной системы.
Далее было нетрудно построить таблицу энергетических значений для всех интервалов, а затем и аккордов. Столь же простым делом было построить энергетические графики для основных семиступенных ладов.
Следующим шагом была постановка вопроса о модельных функциях иных музыкальных параметров – высоты звуков, громкости и прочих. Возникали и другие вопросы. Например, почему в мажоре, миноре и других диатонических ладах именно семь ступеней, а не больше, и не меньше. Чем чистая семиступенная диатоника отличаются от хроматики. Чем пентатоника отличается от семиступенной диатоники?…
По мере ответов на эти и другие вопросы, вырастала более-менее цельная логическая конструкция, которую я условно назвал «теорией музыкального моделирования». В процессе этого движения, я все больше убеждался в том, что утверждение о «неподражательном» характере музыкального искусства ничего не доказывает, ничего не объясняет, а лишь закрывает от взгляда исследователя целый ряд интересных и важных вещей. Подход с позиций моделирования, конечно же, не может объяснить всего. Но он позволяет двигаться. И в этом движении я еще не пришёл к ощущению, что уперся в непроходимую стену. Наоборот, чем дальше идешь, тем больше вопросов и тем больше ответов.
О музыкальной моделирующей системе
Для начала введём несколько вспомогательных понятий и дадим предварительные разъяснения. Их функция состоит в создании необходимых предпосылок для того, чтобы сформулировать основные определения (и чтобы эти определения были по возможности однозначно поняты).
ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКИ. Так мы будем называть звуковые феномены, их комплексы, их параметры и отношения, включенные в музыкальную практику (деятельность).
Этот последний признак (включенность в музыкальную практику) является существенным. Это означает, что звуковые феномены, не включенные в музыкальную практику, нами не будут рассматриваться в качестве элементов музыки. Собственно, это так потому, что музыка – это и есть определенная практика (деятельность). Включенность в эту практику и есть включенность в музыку.
Включенность в практику означает реализацию (выполнение) определенных, связанных с этой практикой функций. Без этого нет включенности. Функций существует множество. Они связаны с тем, что в этой музыкальной практике человек реализует свои отношения к реальности (к объективному миру), к социуму, т. е. к другим людям (в частности, коммуникативная функция), к культуре, к самому себе.
Говоря именно о звуковых феноменах, мы хотим тем самым подчеркнуть, что имеются в виду лишь то, что воспринимаемо, слышимо, осознаваемо. Так, звуки не слышимые (по причинам слишком низкой амплитуды колебания или частоты, лежащей за порогом восприятия) не входят в объем этого понятия. Точно также, к этому не имеют отношения чисто физические параметры и их значения (частота, амплитуда колебания, обертоновый состав и пр.). Этим «чисто объективным» параметрам соответствуют такие качества звуковых феноменов, как высота, громкость и тембр. Эти параметры описывают именно то, как мы слышим и осознаем звуковые явления. Акустические явления, чтобы стать элементами музыки, должны быть, как минимум, восприняты и осознаны.
Введенное только что ограничение, делает понятным, что исследовательский подход, предполагающий изучение музыки как чего-то совершенно «объективного», независимого от человека, наподобие того, как изучаются явления и процессы в природе, вступает в противоречие с вышеизложенным пониманием элементов музыки. Происходит это потому, что эти «чисто объективные», отделенные от человека и его практической деятельности вещи элементами музыки не являются по определению.
Возникает вопрос, относятся ли к элементам музыки такие «не акустические» характеристики, как ритм, метр и темп? Ведь ни то, ни другое, ни третье не относится к разряду собственно звуковых феноменов. Все это не про звук, а про время. Давайте вернемся к определению. В нем, помимо прочего, говорится об отношениях. Но среди отношений между звуковыми феноменами, входящими в состав музыкального целого, важнейшую роль играют именно временны́е отношения, которые в контексте музыки обретают значение ритма, метра и темпа, а также аспектов музыкальной формы. Да и сам звук как таковой сущностно связан с категорией времени. И объективно (как циклический процесс, имеющий частоту), и субъективно (длительность, метрическая структура). Аналогичным образом и по аналогичным причинам к числу элементов музыки принадлежит и пауза («нулевой звук»).
По своей значимости для музыкальной практики, звуковые комплексы стоят выше, нежели отдельные звуки, звуковые параметры выше, чем звуки как таковые, а отношения между параметрами выше, чем сами параметры.
МУЗЫКАЛЬНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА (ММС) понимается нами как организация элементов музыки, обладающих определенными модельными функциями.
Таковыми по определению должны обладать звуковые феномены, их комплексы, параметры и отношения. Без этого условия они не входят в состав музыкальной моделирующей системы. В дальнейшем нашим непосредственным предметом становится именно музыкальная моделирующая система. Все остальное может иметь лишь косвенное значение.
Поскольку отношение к реальности является атрибутивным качеством искусства, а моделирование является необходимым аспектом отношения искусства к реальности, постольку моделирование является необходимым элементом (атрибутом) художественной практики (музыкальной, в том числе). Это значит, что музыкальная практика как таковая, с необходимостью включает в свой состав моделирование реальности. Следовательно, музыкальная система не может не быть моделирующей. Другое дело, что далеко не всегда предметом изучения оказывается именно эта ее сторона. Поэтому, говоря о музыкальной моделирующей системе, мы тем самым подчеркиваем, что основным предметом нашего исследовательского интереса является именно функция моделирования реальности.
ММС в таком ее понимании является абстрактным объектом4. К сожалению, в традиционном музыкознании нередка путаница, когда привычные музыковедческие понятия, а также многие выражения, описывающие реальную музыкальную практику (например, лады, тональности, интервалы, аккорды и прочее) без каких либо оговорок интерпретируются, как эмпирические понятия. При этом упускается существенная разница между языком, служащим организации практического действия («играем в до мажоре», «сделай модуляцию в тональность доминанты» и т.п) и языком теории, оперирующей отвлеченными понятиями, облеченными в слова, которые произносятся и пишутся так же, но имеют иной смысл. Реальная музыкальная практика, подчиняющаяся определенным культурным нормам, содержит в себе множество инвариантов музыкальной деятельности (сочинения, исполнения, восприятия), каковые находят свое отражение в обслуживающем музыкальную деятельность языке.
Возьмем в качестве примера понятие «До мажор». Игра в До мажоре, звучание До мажора, восприятие До мажора суть реальные эмпирические факты. Они всегда привязаны к определенным условиям места, времени и пр. Но «До мажор вообще» таковым не является. Его существование не нуждается ни в исполнении, ни в чьем-то восприятии. Это – отвлеченный теоретический конструкт5. Здесь возникает определенная теоретическая трудность. Дело в том, что музыкальная практика людей, даже не имеющих какого-либо музыкального образования и никогда не слышавших подобных слов, все же каким-то образом управляется этими «инвариантами» (правилами). Люди так слышат, так поют и т. д. Это рождает множество сложных вопросов, которые условно можно свести к одному – «каким образом это происходит?».
Но мы в данном конкретном случае ограничимся лишь тем, что укажем на наличие этих вопросов, их сложность, их важность и их весьма малую исследованность. Сами же сосредоточим свое внимание непосредственно на особенностях строения ММС.
ЗВУК. Понятие «звук» является многозначным, что порождает неизбежную путаницу. Поскольку понятия «звук» и «музыкальная система» в музыковедческих работах, как правило, так или иначе связываются, нам необходимо уточнить собственные позиции относительно их использования.
Прежде всего, будем отличать друг от друга понятия «ФИЗИЧЕСКИЙ ЗВУК» и «ЗВУКОВОЙ ФЕНОМЕН». Физический звук мы понимаем как материальный процесс – колебание физического тела, обладающий такими существенными для него характеристиками, как частота, амплитуда, длительность, обертоновый состав, скорость распространения в той или иной среде и др. Изучается таким разделом физики, как акустика. Для физического звука в общем-то не существенно, слышит его кто-либо или нет, какое он производит впечатление и пр. Звуковой феномен, напротив, есть то, что воспринимается и осознается тем или иным образом. Многие свойства и параметры физического звука находят свое соответствие на уровне звукового феномена. Так частоте соответствует высота, амплитуде – громкость, обертоновому ряду – тембр. Но соответствие не есть тождество.
ЗВУК И МУЗЫКАЛЬНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА. Правильно ли будет сказать, что музыкальная моделирующая система состоит из звуков? Нет, в нашей логике это будет, как минимум, не точно. Дело в том, что мы определяем музыкальную систему не как множество реальных физических звуков (нам, честно говоря, даже не понятно, где и как такое множество может существовать), а как принцип организации, где элементы системы становятся узлами отношений, образующих структуру системы. Тогда реально звучащие звуки оказываются средством проявления-опредмечивания этой системы. Без такого проявления на материальном плане система перестает быть предметом или средством человеческой коммуникации, а также регулятором деятельности, обеспечивающим связь композиторской, исполнительской и слушательской активности. Но, при всей важности такой функции реальных физических звуков, они не являются непосредственно элементами системы. Система – абстрактный объект, и все ее элементы суть абстрактные объекты.
В этой логике «звук» как элемент музыкальной моделирующей системы не является звуком в обычном смысле слова. От многих его качеств мы просто абстрагируемся. В том числе, он даже «не обязан» звучать. Он, как было сказано выше, есть узел внутрисистемных отношений. И в этом смысле, он вторичен по отношению к самой системе. Тут нет ничего недопустимого или странного. Он – абстрактный объект. Такой же, как материальная точка, идеальный газ и т. п. Здесь нет чего-то нового. Вторичность элементов по отношению к системе есть необходимый аспект взаимодействия части и целого. Объединяясь в систему, элементы как бы теряют некоторые свои прежние свойства, которые присущи им вне системы. При этом они, как правило, приобретают какие-то новые свойства.
В этом системном контексте связи и отношения элементов приобретают более важное значение, нежели сами элементы. Например, интервалы (мелодические ходы) в мелодии оказываются важнее, чем собственно звуки, последовательностью которых может показаться мелодия на первый взгляд. Примером, убедительно подтверждающим это, является транспонирование мелодии. Заостряя эту мысль, можно сказать, что музыка состоит не из звуков, а из их отношений. Причем, именно из внутрисистемных отношений.
МУЗЫКАЛЬНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА КАК ПРЕДМЕТ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. Мы исходим из предположения (а точнее, из убеждения), что музыкальная моделирующая система обладает своими особенностями, свойствами, организационными принципами, обуславливающими необходимость (целесообразность) ее специального рассмотрения. Иными словами, она вполне достойна того, чтобы быть специальным предметом исследования. В настоящее же время она а) изучена далеко не в должной мере, б) по большей части «растворена» в иных музыкально-теоретических предметах, что приводит к размыванию ее специфики. Перечислим некоторые такие музыковедческие предметы, где ММС так или иначе находит хотя бы частичное отражение.
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ. Прежде всего отметим прикладную (практическую) направленность этой не столько научной, сколько учебной дисциплины. В ней говорится не о музыкальной моделирующей системе, а просто о музыкальной системе. Система эта, как правило, мыслится как состоящая из звуков. Ее структура чаще всего выводится из структуры обертонового ряда, что делает обертоновый ряд «объективной причиной», объясняющей строение музыкальной системы. Своего рода зерном, из которого она вырастает «естественным образом». В результате на первый план выдвигается физическая составляющая процесса, а человек, его деятельность и культура «выносятся за скобки».
Лишенная, фактически, непосредственной связи с практикой, музыкальная система и ее свойства мыслятся так, что не возникает даже вопросов о функциях ее самой и ее элементов. Соответственно, нет речи и о модельной функции (шире – об отражательно-познавательной функции).
Такие важные структурные составляющие ММС, как лады, интервалы, аккорды и пр. описываются, как правило, вне связи с системой, как независимые от нее самостоятельные сущности, имеющие те или иные свои характеристики потому, что «так исторически сложилось».
ГАРМОНИЯ. Между предметами элементарной теории музыки и гармонии есть определенная связь в силу того, что первая, помимо прочего, выполняет функцию подготовки ко второй. Поэтому понятия звукоряда, лада, тональности, ладовых функций, аккорда и пр. вводятся уже в курсе элементарной теории музыки, но в курсе гармонии рассматриваются значительно более полно и обстоятельно.
Следует заметить, что между собственно научным направлением развития музыковедческого знания и учебно-преподавательским направлением грань весьма условная, граница прозрачная. И мы с трудом можем отделить одно от другого.
ПОЛИФОНИЯ. Этот предмет отличает ещё более определённо выраженная технологическая направленность. Это обстоятельство в значительной мере предохраняет от всяческой теоретической путаницы. Предмет здесь вполне чёток и ясен – приёмы (алгоритмы) композиторских действий. Можно сказать, правила игры. В рамках строго стиля господствуют одни правила. В рамках свободного – другие. Сама по себе данная дисциплина не ставит перед собой задачу причинного объяснения этих правил. Это обстоятельство по началу может вызвать некоторое недоумение. Но потом к этому привыкаешь.
АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. Здесь мы имеем дело с дисциплиной, сила которой является одновременно причиной её слабости. Речь идёт о её синтезирующей (интегрирующей) направленности. Внутренний пафос развития этой области музыкальной науки состоит в значительной мере в том, чтобы выработать теоретический аппарат, позволяющий любое конкретное музыкальное произведение проанализировать и объяснить не с какой-то отдельной точки зрения, а целостно и всесторонне. В определенном смысле такой анализ становится уже не научной деятельностью, а своеобразным искусством. При этом, упомянутое стремление к всесторонности, как правило, упускает из виду такую сторону музыки, как её связь с человеком. Произведение берется по возможности целостно, но как бы «объективно», как существующая сама по себе «вещь». Другая сторона бытия музыки, которая также «выносится за скобки» – это отношение музыки к отражаемой ею реальности. Соответственно, вопрос о моделировании и модельных функциях в данном контексте вообще не ставится.
* * * * *
МУЗЫКАЛЬНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА состоит из некоторого множества относительно самостоятельных блоков. К ним, в частности, относятся
– Звуковысотная система.
– Темпоральная система. Сюда входит то что относится к музыкальному времени – ритм, метр, темп, форма.
– Субстанциальная система, которая имеет две стороны – количественную (громкость) и качественную (тембр)
Вышеперечисленные системы чаще всего называют средствами музыкальной выразительности. Нисколько не возражая против такой трактовки, мы, тем не менее, всего лишь сосредотачиваем внимание на других сторонах функционирования этих вещей, на иных связях и взаимодействиях. Они интересуют нас с точки зрения моделирования музыкой явлений действительности (формирования картины мира).
Эти блоки находятся во взаимодействии и служат для создания единого художественного целого, для реализации единого художественного замысла. Тем не менее, изучать и описывать их можно и по отдельности. Условно отделить друг от друга, чтобы затем поставить вопрос об их взаимодействии.
В рамках настоящего текста (статьи, главы) мы сконцентрируем свое внимание на звуковысотной системе.
Что касается употребления термина «звуковысотная система», то мы с самого начала должны договориться о следующем. Под этим термином мы не будем подразумевать только лишь материальную сторону музыкального звука и его отношений с другими музыкальными звуками. Поскольку нас интересует прежде всего модельная функция любого музыкального параметра, постольку подобная трактовка в принципе исключена для нас.
Модельная функция представляет собой отношение параметров моделирующей системы к параметрам моделируемой системы. Это отношение не возникает и не реализуется без активного участия субъекта – человека, создающего и использующего модели в процессе своей деятельности. Таким образом, любой из блоков музыкальной моделирующей системы изначально представляет собой единство субъективного и объективного, материального и идеального. Это их единство должно не просто голословно утверждаться (чтобы затем о нём забыть), но и быть предметом специального анализа.
Если мы отвлекаемся от роли человека, его деятельности, от роли общественной музыкальной практики, то есть, от всей гуманитарной составляющей становления и функционирования музыкальной системы, то в нашем распоряжении остается вовсе не нечто конкретное, материальное, физическое, как это может показаться на первый взгляд. В нашем распоряжении оказывается абстракция, которая лишь выглядит описанием чего-то простого. Простота эта возникает от того, что реальная сложность явления «выносится за скобки». Если мы понимаем это, помним об этом, то использование такой абстракции может оказываться полезным. Но если забыть об этом, то неосознанная абстракция легко превращается в заблуждение.
От чего же мы отвлекаемся? Прежде всего, от физической и физиологической сложности процесса. От всего, что предшествует превращению энергии материального воздействия в феномен восприятия, в «факт сознания». Во-вторых, мы отвлекаемся от сложности, связанной с «психологией». В частности, говоря о том, что музыкальный звук есть частный случай «слышимых звуков», мы, как правило, не уточняем, на каком уровне – сознательном или бессознательном – этот звук воспринимается. А ведь это далеко не одно и то же. Причем, и то, и другое (и их взаимодействие) имеет существенное значение в процессе художественного восприятия. В-третьих, мы отвлекаемся от того, что музыкальная система, а следовательно и звук как элемент этой системы, есть факт культуры со всей ее сложностью. Музыкальная система как культурологический феномен не может быть представлена лишь в виде множества звуков и их отношений.
От всего этого мы отвлекаемся и образуем абстрактное понятие, формально простое и весьма полезное своей простотой. Нужно лишь воздержаться от искушения гипостазировать эту абстракцию, то есть, приписать ей «объективное», независимое от нашей деятельности существование. В этом случае понятие «музыкальная система» становится удобным теоретическим инструментом. Как и многие другие абстрактные научные понятия («идеальный газ», «абсолютно твердое тело» и т. п.).
Теперь, когда мы отвлеклись от всего вышеперечисленного, оказалось ли в нашем распоряжении нечто совсем уж простое? Оставим размышления над этим вопросом на потом, а сами перейдем к рассмотрению (построению) звуковысотной системы.
ЗВУКОВЫСОТНАЯ СИСТЕМА. В статье Ю. Н. Холопова в музыкальной энциклопедии (1974 года) она называется «звуковая система». Там, в частности, написано: «Звуковая система – высотная (интервальная) организация муз. звуков на основе к.-л. единого принципа. В основе з.с. всегда лежит ряд тонов, находящихся в определенных, поддающихся измерению отношениях»6. Из дальнейшего изложения следует, что автор рассматривает звуковую систему прежде всего в историческом аспекте, как нечто развивающееся, меняющееся со временем. Поэтому, звуковая система в разные эпохи выглядит по-разному. И эти различия существенны.
Большинство авторов так или иначе солидаризируются с таким подходом7. Другим общим моментом является то, что звуковая система («звуковысотная система», «музыкальная система») рассматривается ими как состоящая из звуков (тонов), то есть как вполне физический объект. По этому поводу мы уже высказали свою позицию. Поэтому, не вдаваясь в полемику с этими взглядами, попробуем несколько изменить (или дополнить) подход и взглянуть на предмет под иным углом зрения.
Во-первых, об «историзме». Кто бы спорил, что музыкальное искусство исторически развивается, а следовательно изменяемся во многих своих существенных проявлениях. И хорошо бы иметь средства, позволяющие эти изменения фиксировать и описывать. Однако этого мы не сможем делать, если в нашем распоряжении нет ничего относительно устойчивого, относительно стабильного, относительно чего эти изменения мы наблюдаем. Простой пример. Во многих домах, где есть маленькие дети, на стене висит некий красиво оформленный аналог сантиметровой линейки, позволяющий наблюдать рост ребенка. А теперь подумаем, что произошло бы, если бы эта линейка росла вместе с ребенком и одновременно увеличивались бы все отмеченные на ней сантиметры и дециметры? Ребенок бы рос, а показания линейки оставались бы прежними.



