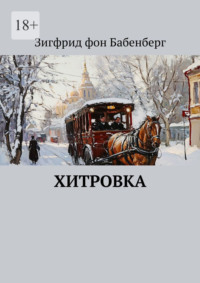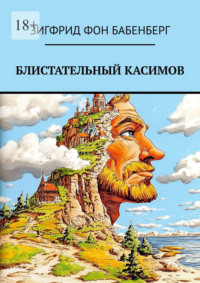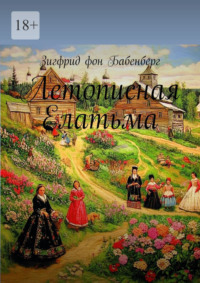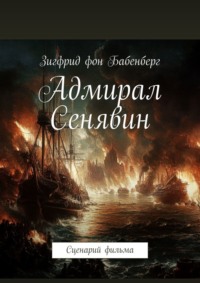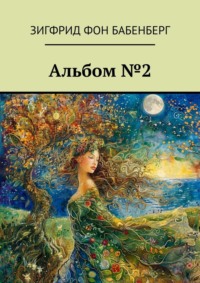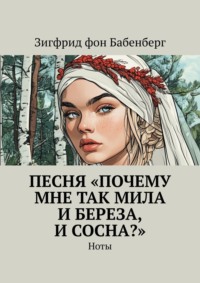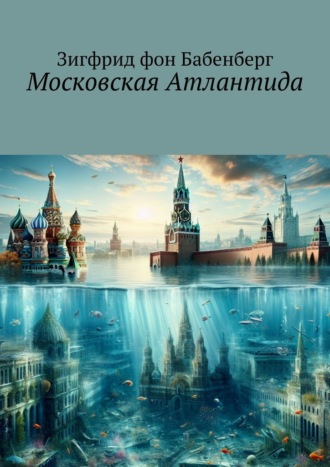
Полная версия
Московская Атлантида
А Петруха-то – хоть бы хны! Стоит, сопли вытирает: «Дяденьки, а когда новый шатёр будет?»
Шатёр тот шведы спалили, а Митрий потом в Питер сбежал – там, говорят, на корабельных мачтах качели устраивал. Вот только горб у него после того случая на вторую сторону переехал…
Царская походная палатка
Слово постельничего с хитрецой да с боярским присвистом
«Эх, барчук ты мой ненаглядный, дай-ка я тебе про царский быт расскажу – так, что у тебя завитки на парике зашевелятся!
Входишь в шатёр – первым делом трижды перекрестись, да не то что на иконы – на ковры смотри! Персидские, мать их, в три слоя – чтобы и царская жопа не замерзла, и грехи все в ворсе увязли.
Сундуки-то наши – целая наука! Сверху соболь – для важности, снизу медведь – для теплоты, а посередке – фляжка с медовухой, для душевности!
А мангал-то, мангал… закатывает глаза царица Наталья Кирилловна, матушка Петрова, велела единорога на нем выковать. Только как ей дьяк подьячий шепнул, что единорог-де к девственной чистоте относится, так она аж покраснела:
«Рог долой! Чтоб и духу не было!»
Так и стоял у нас бедолага-конёк без рожек, пока Петруша малый не приметил: «Матушка, да это ж просто кочерга с ногами!» Трах-бабах – и на переплавку!
Теперича у нас мангал новый – с двуглавым орлом, да только… понижает голос… орел-то почему-то всегда пьян – то одна голова скособочена, то другая вниз смотрит!
А ковры те самые после Петра куда делись? Да наш же старший постельничий, хитрец, их себе в опочивальню стянул! Говорит: «Для душевного спасения!» А сам, шельма, на них с сенными девками… ну, ты понял.
Бараши ныне
Плач по ремеслу с матерком да с горькой усмешкой
«Эх, сударь ты мой… плюнет через левое плечо, – Теперя-то кто помнит? Вот вон в том кабаке, где пьянь голосящая «Калинку» орет, у нас девки шелка сучили – так ловко, что сам патриарх засматривался!
А в подклете, где ныне крысы да бутылки валяются, краски в кувшинах стояли – синька египетская, ярь-медянка, золото сусальное… Теперь там холуй одного купчишку бочонок с портвейном прячет!
Приезжал сюды барин щупленький, в очках: «Где, – спрашивает, – инструменты ваши цеховые?» Я ему: «А внук-то мой, Ванька-сорванец, на иголки перековал! Шилом, говорит, теперь Москву шьют, а не шатры!»
Барин-то заревел, как малый дитя… А я думаю – лучше уж иголки, чем на боярских гробах бархат шить. Хоть в могилу с чистыми руками сойду!
А про 1714 год… понижает голос до шёпота Последний бараш, Степка Рыжий, как услышал Петров указ про «европейские манеры», так взял да всё узорное наследство в печь – тррах! «Нехай, – говорит, – лучше прахом пойдёт, чем немцам в руки попадёт!» Только вот… глаза хитро щурятся… один альбомец в монастыре спрятал. Может, и найдётся когда для потомков!
(Вдали доносится пьяное: «Эх, ма-а-алята!»)
КАДАШЕВСКАЯ СЛОБОДА
рассказ с квасной гущей да с купеческой спесью
– Эх, судари мои, Кадаши-то не чета вашим Барашам! – баба Нюра, потомственная кадашевская ткачиха, хлопнула ладонью по мокрому от кваса столу. – У нас не вонючие кожи, а золототканые покровы! Не пьяные иконописцы, а крепостные мастерицы, што по ночам с женихами через забор перешептывались!
(байка с холщовой подкладкой да с золотыми нитками)
«Эх, милок, да ты присаживайся, кваску хлебни! – бабка Нюрка шлёпнула глиняным кувшином по столу, брызги на старую вышиванку попали. – Ты про Кадаши спрашиваешь? Да это ж не слобода – кладовая Господня!
У вас, у барашей, кожей воняло, а у нас – ладан да шелк по переулкам стелился! Вон в той избе, где ныне кофейня модная, три поколения моих родственниц по станам горбатились.
.Про золотые руки «Моя прабабка Акулина, царство ей небесное, ткала так, что сам патриарх нос утирал! Раз прислал заказ – пелену для чудотворной иконы. Три ночи без сна, а как принесли – батюшка аж прослезился: – Да это ж ангелы ткали! А прабабка-то сквозь зубы: – Ангелы-то ангелы, да иголки у нас в рай не пущают…»
Про женихов да заборы «А вон за тем забором девки по ночам женихов принимали. Ткачихи ведь у нас не простые – с приданым! Только смотри: – Первый парень – за золотоносную жилу. – Второй – за церковного старосту. – Третий… – бабка хитро щурится – …это который через забор перелезть сумел!»
Про купеческий спесивец «Был тут купец Ермолай – брюхо на сафьяне носил. Заказал себе саван при жизни – с гербом да с орденами. Только вот мастерица-то ему в подкладку: – „От твоей спеси, батюшка, и моль дохнет!“ – вышила. Как помер – в гробу у него бока зашевелились…»
Нынешние понты «Теперь-то в наших палатах: – Вместо ткацких станов – коворкинги. – Вместо кумачных платов – кожаные кресла. – Вместо девичьих песен – джаз по выходным. Только вот… – вздыхает, доставая из-под скатерти старинный челнок – …иголки те же, да уж больно нитки нынче жидкие!»
А если в полночь приложить ухо к стене бывшей фабрики – услышишь, как дедовский станок поскрипывает: «Ка-да-ши! Ка-да-ши!» Да только отвечать ему уже некому…
(На столе застыла лужица кваса, в которой отражается золотой купол Воскресенской церкви…)
«Кадашёвский холст»
(рассказ с контрабандной подоплёкой)
«При царе Алексее, значит, наш холст в Англию возили! – бабка щурится, вытирая губы рукавом. – А как? Да очень просто: намотают на себя под рубахой – да через таможню бочком! Только одна Дуня с перепугу чихнула – так с неё полсотни аршин, как с дурака шапка, и посыпалось!»
– Ай да холстина-то наша! – бабка Агафья, дочь ткачихи Домны, шлёпнула ладонью по коленке, да так, что вся ржавая булавка из платка выскочила. – В Англию, слышь, возили! Сама королева ихняя, говорят, носовым платком из него сморкалась!
Как провозили: – Брали холст первой руки – тоньше паутины, да крепче кольчуги. – Наматывали на тело под рубахой – мужики по тридцать аршин, бабы по пятьдесят. – Через таможню божьими одуванчиками проходили – крестились, кашляли, на иконы вздыхали.
Про Дуньку-чихальщицу: – Была у нас девка Дуня – стройная, как тополь, да пугливая, как заяц. Раз несла сотню аршин на себе. У самой королевского дворецкого на горизонте…
– «Батюшки, таможник!» – «Тише, дура! Это ж голландец – он наш холст как свои штаны знает!»
Да как вдруг чих – апчхи! – и пошёл холст из-под юбки разматываться!
– Таможник ахнул: – «У вас там что, река?!» – А Дуня, красная, как кумач: – «Это я… это… платье на выпуск!»
Последствия:
Голландцы три дня ржали – даже цену набавили Дуньку замуж взял сам таможенник – «Шустрая, говорит, баба – на контрабанде словить не даст!» С тех пор в указе царском прописали: – «Холст возить в тюках, а не на тётках»
А тот самый «чихальный» холст теперь в Оксфорде лежит – табличка висит: «Русское чудо XVII века». Только про Дуньку, естественно, ни словечка…
(Бабка Агафья допивает квас, а за окном ветер шевелит вывеску новой ткацкой мастерской – «Кадаши. Реинкарнация». )
Церковь Воскресения
«А колокольню-то нашу зачем такой высокой строили? – старый звонарь Федосей пальцем в небо тычет. – Чтобы, когда наши ткачихи женихов отшивали, на всю Москву слышно было: «Не-а-а пойдё-ё-ёт!»
КОЛОКОЛЬНЫЙ СПОЛОХ (история с поднебесным перезвоном да с девичьим своевольем)
– Эх, барчук, дай-ка я тебе про нашу свечку каменную растреплюсь! – Федосей-звонарь, щербатый старик с руками, как корни дубовые, плюхается на церковную паперть, доставая из-за пазухи огурчик солёный. – Видишь, как колокольня-то в облака тычется? Это ж неспроста!
1. Про высоту – Строили, строили, да как до восьмого неба добрались – архитектор в обморок: – «Батюшки, да мы ж Господу Богу на плечо залезем!» – А купцы кадашёвские ему в ответ: – «Ты, милок, строй, а уж мы Его Величество шелком да холстами задобрим!»
2. Про колокола – Главный колокол «Брат» – 300 пудов, язычище – с бревно! Когда бьёт – в Кремле фарфор дребезжит! Да только… понижает голос… звоним мы им раз в год – на Пасху. А почему? Да потому что в 1812 году француз на него залез, да как заорал: «Vive l’empereur!» – так колокол ему… хлоп! – и сапоги на земле оставил!
3. Про ткачих (главная тайна!) – А вот теперь, сударик, наклонись поближе… Видишь вон те окошки под самым крестом? Туда наши ткачихи провинившихся женихов поднимали и с высоты птичьего полёта объявляли:
– «Ми-и-иленький! Ты у меня и ша-а-апси, и чекме-е-ень, да только вот…» – «Чего „только“?» – «А вот чего!»
И тут весь Китай-город оглашался малиновым звоном: ДОН-ДОН-ДОН-НЕ-ПОЙ-ДЁТ!
4. Нынешние звоны – Теперь-то молодёжь: – Одни в колокола «хайпово» бьют – будто по кастрюлям ложкой! – Другие селфи на фоне креста лепят – рот уточкой, крестик в! – А старухи внизу крестятся да приговаривают: – «Господи, прости этих дурачков… да и нас заодно!»
P.S. А если встать ровно в полночь под колокольней, да крикнуть: «Лю-ю-юблю!» – эхо тебе ответит: «Бо-о-ольно!»
(Федосей закусывает огурцом, а где-то наверху, в облаках, старый колокол «Брат» тихонько постанывает на ветру…)
КАДАШЁВСКИЕ БАЙКИ
(рассказы, что золотом шитые, да квасом приправленные)
1. Про купца-самодура
(или как портрет в саван превратился)
«Ах ты ж, пёс мякинный! – бабка Ульяна, потомственная вышивальщица, швырнула веником в сторону бывшей лавки. – Был у нас купец Ефим Колченогий – такой спесивый, что в зеркало, бывало, слюной брызгал – любовался!
Как-то раз приходит: – «Вышейте, – говорит, – мне покров с рожей моей благолепной! Чтоб как помру – ангелы сразу поняли, кого в рай тащить!»
Ткачихи шепчутся: – «Да ты ж, Ефим Кузьмич, ещё лет двадцать протянешь!» – «Не ваше дело! Золота не жалеть – чтоб борода как живая, а глаза чтоб глядели!»
Вышили.
А через месяц голод в Москве случился – кружева голландские жрать начали! Ефим зубами в свой покров вцепился: – «Братцы, да это ж я ж свою рожу съел!»
Так его в этом саване и схоронили – рот в вечной ухмылке, глаза выпучив на небо…
2. Про Аришку-златокосу
(или как кадашёвская девка Меншикова обула)
«Ах, Аришка-то наша! – старый красильщик Гаврила аж прослезился, вспоминая. – Была первой красавицей на слободе – коса до пят, да вся в золотых нитях!
Как Пётр столицу в Питер переносил – она все свои пять пудов золота в косы заплела да как махнёт туда!
Меншиков её на пороге дворца увидел: – «Ты откуда, девица?» – «Да из Кадашей, батюшка!» – «А косы у тебя чего так блестят?» – «Да так, по мелочи…»
Как узнал светлейший, что это не просто косы, а целое состояние – аж карету ей уступил!
Теперь эти нитки в Эрмитаже лежат – табличка: «Русское золото XVIII века». А про Аришку – ни словечка… Но мы то помним.
3. Про Петра да про цены
(или как кадашёвцы царя перехитрили)
«Помню, как Пётр Алексеевич к нам пожаловал! – целовальник Степан хлопнул кулаком по столу. – Осмотрел слободу да как орёт: – «Отныне сие – Великий Посад!»
Кадашёвцы переглянулись – да как рванут к воротам с кистями! К утру на каждом доме:
«Ткань золотая – 5 рублей аршин» «Вышивка царская – 10 рублей вершок» «Нитки заграничные – 15 рублей горсть»
Царь как увидел – да как захохочет: – «Ну и жулики!» – «Не жулики, Ваше Величество, а – великие посадские!»
С тех пор и пошло: «Великий Посад» на бумаге, а в жизни – Кадаши с ихними ценниками…
А если ночью пройтись по переулкам – до сих пор слышно, как ветер шепчет: «Пять рублей аршин… пять рублей аршин…» Да только никто уже не торгуется…
МАТРЁНА МАРКОВНА ИЗ ЗАРЯДЬЯ
(рассказ с подворотенным подолом да с луковым духом
– Ох, родимый, коли хочешь про нашу Матрёнушку – садись на корточки, да поближе! – бабка Фёкла, соседка Марковны, шаркнула лаптем по замызганному полу кабака «У пропащего моста». – Она ж не баба – огонь-женщина! Всё Зарядье её побаивалось, а сам царь Пётр Алексеич, слышь, шапку перед ней ломал!
Про родословную
– Родилась Матрёна в подполе Варварки – меж мешками с луком да бочками селёдки. Мамка её, Марфа-переторговка, на четвёртый день после родов уже на рынок потащила – в кульке вместо ребёнка луковицы трясла, а дитё под прилавком в опилках лежало.
– «Вырастет – торговать будет!» – Марфа приговаривала. – Так и вышло – только торговала Матрёна не товаром, а чужими тайнами…
Про профессию
– Официально – луком торговала у Китайгородской стены. – Неофициально – всю Москву на уши ставила: Свахи к ней за советом – кто кому пару сведёт Воры – где казна купеческая лежит Бояре – чем их жёны по сусекам прячут
– «У Матрёны, – говорили, – не лавка, а контора: что в одно ухо влетит – из другого за рубль вылетит!»
Про Петра Великого
– Как-то царь инкогнито по рынку шёл – Матрёна его сразу раскусила: – «Эй, бородач! Тебе лук – али правды?» – Пётр аж замер: – «А правда-то какая?» – «Да твоя Катька в Преображенском не одна ночует!»
– Наутро стрельцы пол-Москвы перетрясли – а Матрёне царь серебряный ковшик подарил с надписью: «За смекалку». Только ковшик-то… понижает голос …уже на следующий день в кабаке «заложили».
Про конец
– Умерла Матрёна в 112 лет – на той же луковой телеге, на которой родилась. Хоронили всем Зарядьем – да так шумно, что патриарх службу отменил: «И так, мол, грехов хватит!»
– А на могилу купечество плиту положило: «Здесь лежит Матрёна Марковна – Продала лук, купила правду, А душу – ни за какие деньги!»
До сих пор на Варварке, если приложить ухо к камням, можно услышать: – «Луку не надо? А сплетенку свежую?»
(Бабка Фёкла допивает квас, а за окном ветер гонит по мостовой луковую шелуху – будто сама Матрёна с того света торгует…)
БЛИННАЯ КАТАСТРОФА
(Подлинная история купца Ермолая Сидорова, записанная со слов его внука)
В тот морозный февральский день 1883 года Чистые пруды огласились необычайным шумом. Купец Ермолай Сидоров, известный всему Зарядью своей страстью к оригинальным затеям, задумал невиданное – испечь стопку блинов высотой с пожарную каланчу!
«Батюшки-светы! – орал Ермолай, размахивая поварёшкой. – Вот ужо напеку блинов, что сам государь обзавидуется!» Его кухарка Арина только вздыхала, вытирая пот со лба: «Барин, да куда столько-то?»
Но упрямый купец уже распорядился:
Дворнику Степану – рубить дрова Кухарке Арине – месить тесто в корыте Кучеру Вавиле – смазывать сковороды
К полудню на берегу пруда выросла настоящая блинная башня. Народ столпился, ахая: «Вон она, московская диковина!» Ермолай, красный от гордости, заказал фотографу запечатлеть сие чудо.
«Эй, светописец! – кричал купец. – Лови момент!» Но едва фотограф накрыл аппарат чёрной тряпицей, как раздался страшный треск. Блинная пирамида закачалась и… БА-БАХ! – рухнула прямо на квартального надзирателя, который как раз шёл штрафовать купца за нарушение общественного порядка.
Что тут началось! Квартальный, весь в сметане и варенье, орал: «В кутузку его!» Фотограф требовал возмещения ущерба за разбитый аппарат. А сам виновник, вылезая из-под груди блинов, только бормотал: «Ишь ты, не выдержала конструкция…»
Суд был скорым. Купцу влепили:
7 суток ареста 50 рублей штрафа Пожизненный запрет на строительство из съестного
Но самое обидное – царь Александр III, узнав о происшествии, только рассмеялся: «Вот дуралей! Лучше бы эти блины голодным раздал!»
Через год Ермолай всё же отыгрался – выстроил из пасхальных куличей точную копию Сухаревой башни. Но это, как говорится, совсем другая история…
ЧЕРТОГИ РАЗУМА
(историческая новелла о Якове Брюсе и боярыне Евдокие
Глава первая. Незваная гостья
Февраль 1720 года выдался лютым. В лаборатории Сухаревой башни, где воздух пахнул серой и ртутью, Яков Вилимович Брюс склонился над чертежами новой баллистической машины, когда дверь с треском распахнулась.
Перед ним стояла женщина в мужском французском кафтане, с высоко поднятым подбородком. За её спиной метель кружила снежные вихри.
– Ваше превосходительство, – голос звенел сталью, – я Евдокия Григорьевна Хомутова-Гамильтон-Матвеева. Научите меня алхимии.
Брюс медленно поднял глаза от чертежей. В углу лаборатории чучело крокодила глупо ухмылялось.
Глава вторая. Уроки просвещения
– Вы понимаете, сударыня, что женщинам запрещено… – Запрещено? – она резко распахнула кафтан, обнажив переплетённый томик. – Локк пишет… – Чёрт побери! – Брюс вскочил, опрокинув склянку с ртутью. – Вы хотите сжечь нас обоих?
Так начались их тайные встречи. По ночам, когда весь город спал, боярыня пробиралась в башню. Они спорили о Декарте, ставили опыты с фосфором, а однажды едва не взорвали половину Китай-города, смешав не те порошки.
Глава третья. Семейный совет
– Ведьма! – старый боярин Матвеев бил посохом по дубовому полу. – Ты опозорила весь род! – Я ищу истину, батюшка. – Истину? – он побагровел. – В компании этого шотландского колдуна?
Той же ночью в дом ворвались стрельцы. Евдокию заперли в светлице, окна забили железными прутьями. Но когда утром пришли – комната была пуста. На столе лежала записка: «Sapere aude» – «Дерзай знать».
Глава четвёртая. Бегство
На санях, увозивших её в Ригу, Евдокия сжала в руках медальон – подарок Брюса. Внутри крошечная капсула с филосорским камнем (пусть и ненастоящим).
Яков Вилимович стоял на крыльце своей башни, провожая взглядом удаляющиеся огоньки. Ветер трепал его седые волосы.
– Ну что ж, – пробормотал он, – может, лет через сто…
Эпилог
В 2018 году при реставрации старинного особняка в Риге нашли тайник. В нём – женский дневник на смеси французского с нижегородским, коллекция химических формул и потрёпанный томик Локка с дарственной надписью: «Моему самому несносному ученику. Я.Б.»
В полнолуние в Сухаревой башне можно услышать, как скрипит перо по бумаге и тихо позвякивают колбы…
ОСОБНЯК В МЕРТВОМ ПЕРЕУЛКЕ
(рассказ с московской пропиской и потусторонним душком)
Дождь стучал по мостовой Спиридоньевского переулка, когда я впервые увидел его. Особняк встал передо мной как кость в горле – неоготические шпили, стрельчатые окна, облупившаяся штукатурка. На калитке висел амбарный замок, ржавый, но крепкий.
– Вам что, совсем крыша поехала? – фыркнул таксист, бросая мой чемодан в лужу. – Тут же…
Он не договорил. Просто резко рванул с места, оставив меня одного перед домом, которого нет ни на одной карте Москвы.
Ключ пришел по почте неделю назад – тяжелый, бронзовый, с гравировкой «13». В конверте лежала записка:
«Наследнику. Жду. Голицын»
Смешно, но последний князь Голицын исчез здесь в 1823 году.
Замок со скрипом поддался.
В прихожей пахло лавандой и… металлом? Я щелкнул выключателем – люстра не зажглась. Зато в глубине коридора мерцал огонек свечи.
– Кто здесь?
Тишина.
На втором этаже нашел кабинет. На столе – открытая бухгалтерская книга с записями на французском. Последняя дата: «14 декабря 1825». День восстания декабристов.
Вдруг страницы сами перелистнулись. Чернила поплыли, складываясь в слова:
«Беги пока можешь»
Ночью проснулся от шепота.
– …не надо было продавать… – …цепь не выдержит… – …он уже здесь…
Стены дышали. В углу шевелилась тень – не моя.
Утром нашел люк под ковром. Лестница вниз скрипела по-стариковски.
В подвале – кольцо, вбитое в стену. И цепь. Короткая. Обугленная на конце.
Из темноты донесся звон металла.
Он стоял спиной – высокий, в старомодном сюртуке.
– Наконец-то, – голос звучал как скрип пергамента. – Я так устал ждать.
Когда он обернулся, я понял, почему в доме нет зеркал.
Меня нашли на скамейке у Патриарших. В кармане – бронзовый ключ, расплавленный в бесформенный слиток.
– Спасибо, – прошептал я первому встречному.
Старуха перекрестилась:
– Тринадцатый. Живой.
Особняк исчез. Теперь на его месте детская площадка. Но иногда дети жалуются на «дядю в цепях», который шепчет им: «Наследник, вернись…»
ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ СЕЧЕНОВСКОГО (Затрапезного)
Контракт подписан за три минуты.
– Вы даже не хотите осмотреть квартиру? – риелтор нервно теребил галстук. Его зрачки неестественно расширились, будто он постоянно находился в темноте.
– Зачем? Триста квадратов на Остоженке за полцены? Я не идиот.
Ключ оказался странно тяжелым, будто отлитым не из металла, а из спрессованного пепла.
Дом встретил меня тишиной. Слишком тишиной – за двойными стеклопакетами не было слышно даже шума Пречистенки.
В спальне пахло лавандой и… формалином?
Я включил телевизор. На всех каналах – мертвая рябь. Лишь на 13-й кнопке угадывались очертания лаборатории и силуэт человека в старомодном сюртуке, склонившегося над чем-то на столе.
– Вы в тринадцатой? – старуха из пятой квартиры перекрестилась. – Там же…
– Что «там же»?
– Ничего. Прочитайте договор. Пункт 13.1.
В моем экземпляре этого пункта не оказалось.
Первый раз я увидел их в 3:15.
Тени.
Не просто темнота – плотные, маслянистые силуэты, выползающие из углов. Они не приближались. Просто стояли. И дышали.
Наутро на кухонном столе лежал потрепанный дневник:
«1904 год, 13 октября. Подопытный продолжает твердить о „тенях из стен“. Сегодня утром нашли его… (далее текст зачеркнут)»
Кнопка "-4» появилась на панели лифта на третий день.
Подвал оказался лабораторией. Столы с ретортами. Засохшие пятна на деревянном полу. И… свежий труп в современной одежде.
Того самого риелтора.
В кармане его пиджака – мой экземпляр договора. Пункт 13.1:
«Клиент согласен стать частью эксперимента».
Сейчас пишу это, запершись в ванной.
Зеркало треснуло. Из щелей сочится что-то черное.
Дверь дрожит от ударов.
Но самое страшное – я начинаю понимать их шепот.
Они зовут меня…
«Подопытный номер четырнадцать».
(Записка, найденная службой уборки в брошенной квартире. Новый владелец въезжает через неделю. По смешной цене.)
ДВОЙНАЯ КВАРТИРА
(История, в которой даже стены не знали, где правда, а где – явь)
1. «Две двери – два мира»
Купил я эту квартиру в старом двухэтажном доме на Сретенке за смешные деньги. Риелтор, мужичок с глазами, как у загнанной лисы, только и сказал:
– Тут особенность… Двери на два переулка выходят. Удобно!
Удобно, блин.
Первая ночь. Просыпаюсь от того, что кто-то на кухне воду включил. Вышел – темно, тихо. Только холодильник гудит.
А утром – на столе кружка с чаем. Пар ещё идёт.
Я чай не пил.
2. «Сосед, которого нет»
Пошёл к соседке – бабке Вере с первого этажа. Спросил:
– Кто кроме меня в квартире прописан?
Она побледнела:
– Да там… – зашептала, – …раньше старик жил. Федорычем звали. Так он…
Тут свет моргнул, и бабка вдруг забыла, о чём говорила.
3. «Чехарда с почтой»
Анонимные письма мне приходили то на Колокольников 11, то на Б. Сергиевский 10.
Однажды получил конверт без марки. Внутри – фото 50-х годов:
Моя квартира. За столом – мужчина (я его узнал – это Федорыч). На стене – часы, которых у меня нет.
А потом я нашёл эти часы – в стене, за слоем обоев. Они шли.
4. «Вторая дверь»
Как-то ночью услышал стук в ту, вторую дверь (ту, что на Сергиевский).
Подошёл – глянул в глазок.
Там стоял я.
Только в пиджаке из того самого фото.
Он улыбнулся и постучал ещё раз.
5. «Кто здесь хозяин?»
Я побежал к выходу на Колокольников 11.
Дверь не открывалась.
За спиной – скрип. Оборачиваюсь:
Вторая дверь (на Большой Сергиевский 10) – приоткрылась.
Из-за неё тянется рука…
Моя рука.
P.S.
Я сбежал через окно.
Теперь эта квартира снова продаётся.
Дешево.
И да – там уже кто-то живёт.
Иногда свет в окнах горит.
Но я-то знаю – я вывернул все пробки.
P.S.S. Потом дом снесут на всякий пожарный. Но в новом доме на месте старого все повторилось
Дом, который помнит всё
(Подсосенский переулок, доходный дом 1883 года постройки)
Старый пятиэтажный доходник на углу Подсосенского и Барашевского переулка. Кирпичные стены, облупленная лепнина, скрипучие лестницы. И – главная достопримечательность: