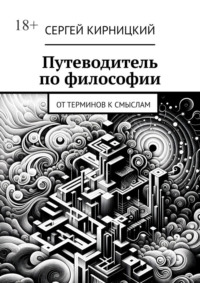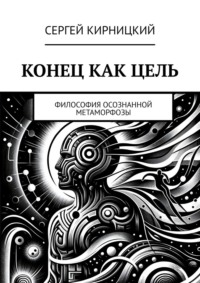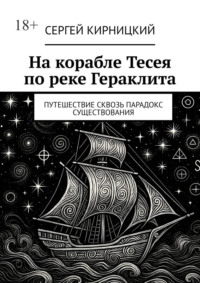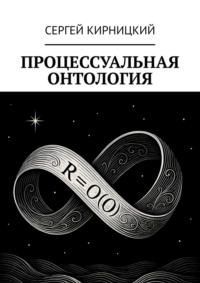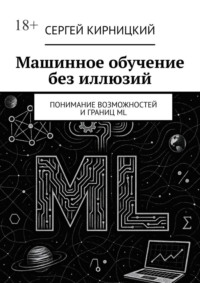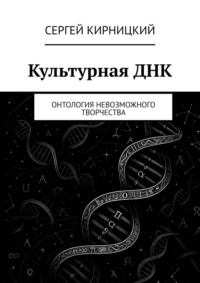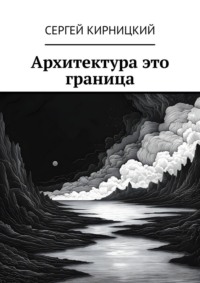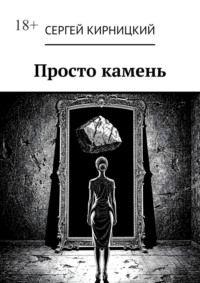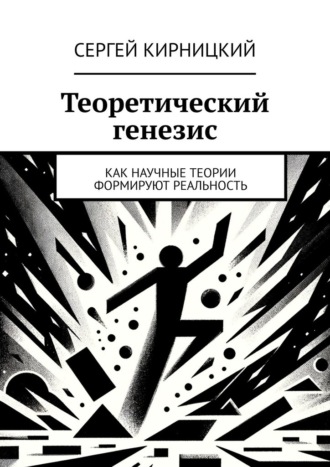
Полная версия
Теоретический генезис. Как научные теории формируют реальность
3.4.3. Фуко: дискурсивные формации и «археология знания»
Мишель Фуко, один из наиболее влиятельных философов второй половины XX века, разработал оригинальный метод анализа дискурсивных формаций, который он назвал «археологией знания». В отличие от традиционной истории идей, фокусирующейся на интенциях авторов, континуальном развитии концепций и кумулятивном росте знания, археология Фуко исследует дискурсивные формации как системы правил, определяющих, что может быть сказано, как, кем и в каком контексте.
В своих работах «Слова и вещи» (1966) и «Археология знания» (1969) Фуко исследует «эпистемы» – исторически специфические системы знания, определяющие условия возможности дискурсов в различные эпохи. Он выделяет три основных эпистемы в западной культуре: ренессансную (до середины XVII века), классическую (с середины XVII до конца XVIII века) и современную (с начала XIX века). Каждая эпистема характеризуется определённым «эпистемологическим пространством» – системой отношений между словами и вещами, между языком и реальностью.
Центральная идея Фуко состоит в том, что дискурсы не просто отражают или репрезентируют предсуществующие объекты, но активно конструируют объекты, о которых они говорят. Например, дискурс психиатрии не просто описывает предсуществующий феномен «безумия», но конструирует «безумие» как специфический объект знания и власти через систему классификаций, диагностических критериев, институциональных практик и отношений власти.
Эта концепция дискурсивного конструирования объектов имеет фундаментальное значение для теоретического генезиса, поскольку позволяет понять, как научные дискурсы не просто описывают, но активно конструируют научные объекты. Научные теории не являются нейтральными репрезентациями предсуществующей реальности, но дискурсивными практиками, конструирующими свои объекты через системы классификаций, экспериментальных процедур, интерпретативных схем и институциональных структур.
Например, дискурс генетики не просто описывает предсуществующие «гены», но конструирует «ген» как специфический объект знания через определённые экспериментальные методы (такие как анализ скрещиваний, секвенирование ДНК), теоретические модели (от менделевской модели наследования к модели двойной спирали ДНК и дальше к современным концепциям «гена»), институциональные практики (лаборатории, научные журналы, конференции) и технологические приложения (генная инженерия, генетическое тестирование).
Особенно важным для теоретического генезиса является анализ Фуко «архива» – системы правил, которая определяет, что может появиться как высказывание в дискурсе, как эти высказывания могут быть сгруппированы и связаны друг с другом, и как они могут быть подвергнуты различным трансформациям. Этот анализ позволяет понять, как научные дискурсы структурируют поле возможных высказываний, определяя, что может быть сформулировано как научная гипотеза, как эти гипотезы могут быть проверены, какие результаты могут считаться значимыми и как они могут быть интерпретированы.
Кроме того, анализ Фуко отношений между знанием и властью (особенно в его более поздних работах) имеет важные следствия для понимания социальных и политических измерений теоретического генезиса. Научные дискурсы не только конструируют свои объекты, но и устанавливают определённые отношения власти/знания, определяя, кто имеет право говорить от имени науки, какие формы знания считаются легитимными, как научное знание связано с социальными институтами и практиками управления.
3.4.4. Деррида: деконструкция как выявление конструирующей роли концептуальных схем
Жак Деррида, один из наиболее влиятельных и противоречивых философов второй половины XX века, разработал метод анализа текстов и концептуальных систем, известный как «деконструкция». Этот метод направлен не на разрушение или опровержение анализируемых текстов, как иногда ошибочно утверждается, но на выявление скрытых предпосылок, противоречий и апорий, на которых они основаны, и на демонстрацию нестабильности смысла, который они претендуют фиксировать.
Центральным понятием деконструкции является «différance» (неологизм Дерриды, объединяющий значения «различия» и «отсрочки») – принцип, согласно которому смысл знаков всегда определяется через их отличие от других знаков и никогда не является полностью присутствующим, но всегда отсрочен, всегда отложен в бесконечной игре различий. Эта концепция подрывает метафизику присутствия – философскую традицию, утверждающую возможность непосредственного, неопосредованного доступа к присутствию, к бытию, к истине.
Деконструкция как метод чтения текстов фокусируется на маргинальных элементах, на том, что текст исключает или подавляет, на бинарных оппозициях, структурирующих текст (таких как природа/культура, мужчина/женщина, разум/тело), и на смещении или дестабилизации этих оппозиций. Она показывает, как смысл текста никогда не является стабильным или единичным, но всегда множественным, контекстуальным, нестабильным.
Эта деконструктивная практика имеет важное значение для теоретического генезиса, поскольку позволяет выявить конструирующую роль концептуальных схем в научном познании, их неявные предпосылки и ограничения. Деконструкция научных текстов может показать, как они основаны на определённых метафизических предположениях, бинарных оппозициях и риторических стратегиях, которые структурируют их понимание исследуемой реальности.
Например, деконструктивный анализ научных текстов по квантовой механике может выявить их зависимость от классических концептуальных схем и метафор, от бинарных оппозиций (таких как волна/частица, наблюдатель/наблюдаемое, детерминизм/индетерминизм) и от различных риторических стратегий, используемых для стабилизации смысла в контексте фундаментальной концептуальной нестабильности.
Кроме того, деконструкция иерархических оппозиций, структурирующих научные дискурсы (таких как теория/наблюдение, объективное/субъективное, наука/метафизика), может способствовать более рефлексивному пониманию научной практики и её предпосылок. Она может показать, как каждый из терминов этих оппозиций всегда уже контаминирован своим «другим», как «чистая» теория всегда уже нагружена наблюдением, как «объективное» всегда уже включает субъективные элементы, как «научное» всегда уже пропитано «метафизическим».
Особенно важной для теоретического генезиса является деррадианская критика «трансцендентального означаемого» – идеи, что существует некий абсолютный, вне-текстовый референт, который фиксирует и стабилизирует смысл знаков. Эта критика позволяет понять, как научные понятия обретают смысл не через референцию к трансцендентальным объектам вне дискурса, но через их отношения с другими понятиями внутри концептуальных систем, через их функции в научных практиках и через их материализацию в экспериментальных установках и технологических артефактах.
Наконец, деррадианская концепция «итерабильности» – принципа, согласно которому повторение знака всегда включает в себя различие, изменение, смещение – имеет важные следствия для понимания процесса научной коммуникации и трансляции научных идей. Она позволяет понять, как научные понятия и теории трансформируются при их повторении в различных контекстах, при их интерпретации различными научными сообществами и при их применении к различным эмпирическим ситуациям.
3.5. Современная философия науки
Из туманных интеллектуальных высот метафизических спекуляций и лингвистических анализов спустимся теперь на землю конкретной научной практики. Если феноменология исследовала конститутивную роль сознания в формировании опыта, а лингвистическая философия – роль языка в конструировании реальности, то современная философия науки фокусируется на реальной практике научного исследования, на её исторической эволюции, социальной обусловленности и когнитивных структурах.
Во второй половине XX века произошёл радикальный поворот в философии науки – от логического анализа научных теорий, их структуры и отношения к эмпирическим данным, характерного для логического позитивизма и критического рационализма, к исторической, социологической и антропологической перспективам, исследующим науку как социальную практику, укоренённую в конкретных исторических, культурных и институциональных контекстах.
Этот поворот, связанный прежде всего с работами Томаса Куна, Пола Фейерабенда, Имре Лакатоса и других, имеет фундаментальное значение для концепции теоретического генезиса, поскольку позволяет понять, как научные теории не просто описывают или отражают предсуществующую реальность, но активно участвуют в её конструировании через сложные социальные и материальные практики научного исследования.
3.5.1. Томас Кун: парадигмы как формирующие структуры научного восприятия
Публикация книги Томаса Куна «Структура научных революций» в 1962 году произвела настоящую интеллектуальную революцию в философии науки, сравнимую по своему значению с «коперниканской революцией» в астрономии. Кун радикально пересмотрел традиционное понимание науки как кумулятивного, линейного процесса накопления знаний, предложив вместо этого модель научного развития как чередования периодов «нормальной науки» и «научных революций».
Центральным понятием куновской философии науки является «парадигма» – фундаментальная теоретическая структура, определяющая, как учёные воспринимают мир, какие вопросы они считают значимыми, какие методы используют для их решения и как интерпретируют полученные результаты. Парадигма включает не только теоретические принципы и законы, но и ценности, образцы решения проблем и даже мировоззренческие установки, разделяемые научным сообществом.
В периоды «нормальной науки» учёные работают в рамках установленной парадигмы, решая «головоломки» – проблемы, определённые и структурированные этой парадигмой. Они не стремятся опровергнуть или радикально изменить парадигму, но скорее расширить область её применения, уточнить её следствия и повысить её точность. «Нормальная наука» представляет собой кумулятивный процесс накопления знаний, но только внутри рамок, установленных парадигмой.
Однако со временем накапливаются «аномалии» – наблюдения или экспериментальные результаты, которые не могут быть адекватно объяснены в рамках существующей парадигмы. Когда количество и значимость этих аномалий достигает критического уровня, наступает «кризис» парадигмы, ведущий к «научной революции» – фундаментальному пересмотру теоретических основ науки и переходу к новой парадигме.
Научные революции, согласно Куну, не просто заменяют одну теорию другой, более точной или более общей. Они представляют собой радикальные трансформации в способе видения мира, изменения в самой структуре научного восприятия и мышления. Наиболее известным примером такой трансформации является переход от птолемеевской астрономии к коперниканской, который изменил не только конкретные предсказания о движении планет, но само понимание места Земли и человека во Вселенной.
Ключевая идея Куна, имеющая фундаментальное значение для теоретического генезиса, состоит в том, что парадигмы не просто интерпретируют нейтральные данные наблюдения, но активно формируют само восприятие учёных, определяя, что они видят и как они это понимают. Ученые, работающие в рамках различных парадигм, буквально «видят различные миры», даже когда смотрят на одни и те же объекты. Например, для сторонника птолемеевской астрономии Солнце буквально вращается вокруг Земли, а для сторонника коперниканской астрономии Земля вращается вокруг Солнца – это не просто различные интерпретации одних и тех же наблюдаемых явлений, но различные перцептивные миры.
Эта идея о формирующей роли парадигм в научном восприятии имеет прямое отношение к концепции теоретического генезиса. Парадигмы можно рассматривать как макро-уровень теоретических конструктов, структурирующих научное восприятие и мышление, делающих определённые аспекты реальности видимыми и значимыми, а другие – невидимыми или незначимыми. Они не просто описывают предсуществующую реальность, но активно участвуют в конструировании «научной реальности», доступной исследованию.
Кроме того, куновская концепция «несоизмеримости» парадигм – идея, что различные парадигмы не могут быть напрямую сравнены, поскольку они определяют различные проблемы, используют различные концептуальные схемы и даже придают различные значения одним и тем же терминам – имеет важные следствия для понимания отношений между различными теоретическими моделями. Она указывает на то, что различные теоретические модели не просто предлагают различные описания одной и той же реальности, но конструируют различные «реальности», которые не могут быть прямо соотнесены друг с другом.
3.5.2. Нельсон Гудмен: «способы создания миров» через символические системы
Нельсон Гудмен, американский философ, разработал оригинальную концепцию «способов создания миров», которая имеет глубокие связи с теоретическим генезисом. В своей книге «Способы создания миров» (1978) Гудмен отвергает платоновскую идею о единственном, фиксированном «реальном мире», который должен быть открыт и описан, в пользу плюралистической концепции множественных «миров», создаваемых через различные символические системы.
Для Гудмена нет «готового мира», ожидающего своего описания. Вместо этого мы активно создаём миры через символические системы – языки, теории, классификации, категоризации, нарративы, изображения, музыку и другие формы репрезентации. Эти символические системы не просто отражают предсуществующую реальность, но активно структурируют наше восприятие и понимание, выделяя определённые аспекты опыта, группируя их определённым образом, устанавливая между ними определённые отношения.
Процесс «создания миров», согласно Гудмену, включает такие операции, как композиция и декомпозиция (группировка и разделение элементов), придание веса (выделение одних аспектов и игнорирование других), упорядочивание (установление отношений между элементами), удаление и дополнение (устранение одних элементов и добавление других), деформация (изменение формы или структуры). Эти операции трансформируют «необработанный материал» опыта в структурированные, осмысленные «миры».
Различные символические системы – такие как наука, искусство, обыденное восприятие, мифология – создают различные «миры» со своими объектами, свойствами, отношениями и законами. Эти миры не являются произвольными конструкциями – они ограничены как свойствами используемых символических систем, так и «сопротивлением» опыта. Но они не являются и простыми отражениями единой, предсуществующей реальности. Они представляют собой различные способы структурирования и осмысления опыта.
Эта концепция «способов создания миров» имеет фундаментальное значение для теоретического генезиса. Научные теории можно рассматривать как особые символические системы, создающие свои «миры» со специфическими объектами, свойствами и отношениями. Например, ньютоновская механика создаёт «мир» абсолютного пространства и времени, населённый материальными точками, взаимодействующими через силы дальнодействия. Общая теория относительности создаёт «мир» искривлённого пространства-времени, в котором массивные тела движутся по геодезическим линиям. Квантовая механика создаёт «мир» волновых функций, операторов и вероятностных распределений.
Эти научные «миры» не являются произвольными конструкциями – они ограничены как логической когерентностью теорий, так и их эмпирической адекватностью. Но они не являются и простыми отражениями единой, предсуществующей физической реальности. Они представляют собой различные способы структурирования и осмысления физического опыта, выделяющие различные аспекты, устанавливающие различные отношения, создающие различные объекты.
Особенно важным для теоретического генезиса является гудменовский анализ роли «проекций» – процесса, посредством которого предикаты, первоначально применяемые к одной области опыта, проецируются на другие области. Научные теории часто развиваются именно через такие «проекции» – например, понятие «волны», первоначально применяемое к видимым волнам на воде, проецируется на звук, затем на свет, затем на материальные частицы в квантовой механике. Каждая такая «проекция» не просто расширяет область применения понятия, но трансформирует само понятие и создаёт новые концептуальные связи.
Наконец, гудменовская критика «мифа о данном» – идеи, что существуют «чистые данные», независимые от всяких концептуальных схем и теоретических предпосылок, – имеет важные следствия для понимания отношений между теорией и наблюдением в научном познании. Она позволяет понять, что научные наблюдения всегда структурированы теоретическими предпосылками, определяющими, что именно наблюдается, как это интерпретируется и какое значение придаётся наблюдаемым явлениям.
3.5.3. Бруно Латур: социальное конструирование научных фактов
Бруно Латур, французский социолог и философ науки, развил оригинальную «акторно-сетевую теорию» (Actor-Network Theory, ANT), которая радикально пересматривает традиционное понимание науки и её отношения к обществу и природе. Вместо того чтобы рассматривать науку как деятельность по открытию предсуществующих «естественных фактов», Латур исследует её как процесс конструирования «научных фактов» через сложные сети взаимодействия между человеческими и нечеловеческими акторами.
В своих этнографических исследованиях научных лабораторий, таких как «Лабораторная жизнь» (1979, с Стивом Вулгаром), Латур показывает, как научные факты не просто «открываются», но буквально «изготавливаются» (fabricated) в лабораториях через сложные сети взаимодействия между учёными, приборами, образцами, протоколами, статьями, грантами и другими элементами. Научные факты не существуют «в природе», ожидая своего открытия, но возникают как стабилизированные результаты этих сетей взаимодействия.
Особенно важным в акторно-сетевой теории является отказ от априорного различения между «природой» и «обществом», между «естественным» и «социальным», между «объективным» и «субъективным». Вместо этих дуализмов Латур предлагает концепцию гибридных сетей, в которых человеческие и нечеловеческие акторы – учёные, приборы, микроорганизмы, статьи, институты – взаимодействуют и взаимно определяют друг друга. Научное знание производится не через одностороннее «открытие» природы человеком, но через совместное «производство» (co-production) природы и общества.
В своей книге «Наука в действии» (1987) Латур вводит ключевое различение между «готовой наукой» (ready-made science) и «наукой в процессе создания» (science in the making). «Готовая наука» – это стабилизированное, общепринятое научное знание, представленное в учебниках и популярных изложениях. «Наука в процессе создания» – это наука в момент её формирования, когда факты ещё не стабилизированы, утверждения остаются спорными, и будущее научных объектов ещё не определено.
Латур показывает, как «черные ящики» науки – утверждения, принимаемые как само собой разумеющиеся, без обсуждения или сомнения – создаются через процесс «очищения», в котором стираются следы их конструирования. Когда научное утверждение становится общепринятым фактом, история его создания, все споры, неопределённости, альтернативные интерпретации, стоявшие за ним, стираются из коллективной памяти. Факт начинает казаться «естественным», существовавшим всегда, просто «открытым» учёными.
Этот анализ процесса «очищения» имеет фундаментальное значение для теоретического генезиса, поскольку позволяет понять, как научные объекты, первоначально конструируемые в сложных сетях взаимодействия, начинают восприниматься как «объективно существующие», независимые от процесса их конструирования. Например, бозон Хиггса, первоначально постулированный как теоретическая необходимость и затем «обнаруженный» в результате колоссальных технологических и социальных инвестиций, теперь воспринимается как «объективно существующая» элементарная частица, которая «всегда была» частью физической реальности, просто «скрытой» от нашего наблюдения.
Однако важно отметить, что акторно-сетевая теория Латура не является формой радикального социального конструктивизма, утверждающего произвольность научного знания или его сводимость к социальным интересам и властным отношениям. Латур подчёркивает, что нечеловеческие акторы – такие как микробы, электроны или гравитационные волны – оказывают реальное сопротивление, «отвечают» на наши действия способами, которые не могут быть произвольно определены социальными факторами. Научное знание является результатом диалога, переговоров между человеческими и нечеловеческими акторами, а не односторонней проекцией социальных структур на пассивную природу.
Эта диалектическая концепция научного познания как процесса взаимного формирования человеческих и нечеловеческих акторов имеет глубокие связи с теоретическим генезисом. Она позволяет понять, как научные теории не просто описывают предсуществующую реальность, но активно участвуют в её конструировании через материальные практики науки, включающие экспериментальные установки, измерительные приборы, лабораторные протоколы и технологические приложения.
3.5.4. Ян Хакинг: «вмешательство» и «представление» в научной практике
Ян Хакинг, канадский философ науки, разработал оригинальный подход к анализу научного познания, фокусирующийся на реальной практике экспериментирования и вмешательства, а не только на теоретическом представлении. В своей книге «Представление и вмешательство» (1983) Хакинг критикует традиционную философию науки за её одностороннюю фиксацию на теориях и их отношении к наблюдению, игнорирующую материальные аспекты научной практики – эксперименты, инструменты, манипуляции.
Хакинг предлагает различать два измерения научной практики: «представление» (representation) – создание теоретических моделей, описывающих и объясняющих явления, и «вмешательство» (intervention) – активное манипулирование природой через эксперименты, измерения, технологические приложения. Эти два измерения взаимосвязаны, но не сводимы друг к другу: представление направляет вмешательство, но вмешательство может происходить и без ясного теоретического понимания, и часто ведёт к пересмотру теоретических представлений.
Особенно важным для теоретического генезиса является анализ Хакингом отношений между этими двумя измерениями в конкретных эпизодах истории науки. Он показывает, как научные объекты, первоначально постулированные как теоретические сущности, постепенно обретают «реальность» через их включение в экспериментальные практики, измерительные процедуры и технологические приложения. Например, электрон, первоначально введённый как теоретическая сущность для объяснения определённых физических явлений, постепенно становится «реальным» через его использование в различных экспериментальных контекстах – от катодно-лучевых трубок до электронных микроскопов и транзисторов.
Хакинг формулирует своё знаменитое экспериментальное правило: «Если вы можете распылять их, они реальны» (If you can spray them, they are real). Этот принцип указывает на то, что научные объекты становятся «реальными» не просто через их теоретическое постулирование, но через их включение в материальные практики манипуляции и вмешательства. Электроны «реальны» не потому, что есть убедительная теория, описывающая их свойства, но потому, что мы можем манипулировать ими в лабораториях, использовать их в технологиях, создавать новые эффекты с их помощью.
Эта концепция экспериментального реализма имеет глубокие связи с теоретическим генезисом. Она позволяет понять, как теоретические конструкты материализуются, обретают «реальность» через их воплощение в экспериментальных практиках и технологических артефактах. Теоретические сущности не остаются просто постулатами в уравнениях, но трансформируются в материальные объекты, доступные манипуляции и использованию.
Хакинг также развивает оригинальную концепцию «стилей научного мышления» – исторически специфических способов постановки вопросов, конструирования объяснений и установления стандартов доказательства. Он выделяет несколько таких стилей, включая аксиоматический (характерный для математики), гипотетико-экспериментальный (характерный для физики), таксономический (характерный для биологии), статистический и лабораторный. Каждый стиль создаёт свои «объекты» – математические структуры, физические сущности, биологические виды, статистические закономерности, – которые не существуют «в природе» до их конструирования в рамках соответствующего стиля мышления.
Эта концепция «стилей научного мышления» имеет важные следствия для теоретического генезиса. Она позволяет понять, как различные научные дисциплины не просто исследуют различные аспекты единой предсуществующей реальности, но активно конструируют свои «объекты» через специфические стили задавания вопросов, конструирования объяснений и установления стандартов доказательства.