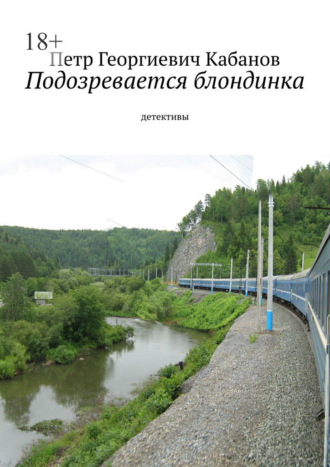
Полная версия
Подозревается блондинка. Детективы
В любом городе и сейчас есть выходцы из разных уголков Советского Союза. Вот и приходилось родителям ездить к ним, а им самим – к родителям. Так произошло и с дочерью моего попутчика. Сейчас принудительного распределения не стало, и если дети уезжают по какой-то причине от родителей, то, как правило, не так далеко.
Но есть ещё одна, более веская причина опустения вокзалов – многие семьи обзавелись автомобилями. Сейчас главной проблемой всех городов стала нехватка мест для стоянок машин. На небольшие расстояния теперь предпочитают добираться на собственном транспорте. Пригородные электрички, ранее заполнявшиеся до отказа, стали полупустыми. Да и само понятие «небольшое расстояние» изменилось. Электрички, как правило, «бегают» между областными центрами и границами области, а это километров сто-двести. Для современных легковых автомобилей такое расстояние считается небольшим. Стало обычным делом: родственников, прилетевших самолётом, встречать на своих машинах. А нередко до аэропорта триста, четыреста, а то и пятьсот километров. А раньше домой добирались по железной дороге.
С появлением сначала мобильной связи, а затем и интернета с видеосвязью ослабла горечь расставания и снизилась потребность в частых поездках родителей и детей друг к другу. С развитием рыночных механизмов пропала необходимость поиска товаров в других городах. Сейчас в одном супермаркете можно купить от булки хлеба до норковой шубы. Опустели не только вокзалы, но и улицы. К тому же появление интернета и увеличение количества каналов телевидения приковало людей к экранам. Посёлки, мимо которых мы проезжаем, кажутся вымершими – почти нет пешеходов, и только автомобили немного оживляют пустынные улицы.
Наш поезд медленно тронулся, а показалось: двинулся вокзал. Я полулежал с подушкой под спиной и смотрел, как его стеклобетонная конструкция в виде двух загнутых вверх носков лыж разной высоты (архитектурная новинка) проплывала мимо окна.
Дальше поезд петлял среди гор. Я стал смотреть на дорожные столбы. Здесь на 1962-м километре между станциями Таганай и Хребет (какое характерное название!) справа, как раз с моей стороны, я не раз видел обелиск на границе между Европой и Азией.
Казалось бы, что на него смотреть – это простое сооружение из камня, обозначающее условную линию на карте, но я обрадовался, снова увидев его, и даже пригласил соседа посмотреть. Видимо, наше внимание к обелиску – это знак уважения тем поколениям исследователей, которые составили карту Земли, разделили её на части света, начертили экватор и полярные круги, нанесли на её поверхность градусы широты и долготы; знак благодарности тем, кто построил здесь дороги, уложил рельсы, поставил станции, возвёл города и этот обелиск. А может, просто вид самодовольства: «Вы не видели, а я видел», – не для того ли ходят на концерты «звёзд», хотя можно спокойно посмотреть их выступление в интернете.
Примерно через час, с левой стороны по ходу поезда, показались очертания многоэтажек с орнаментами на стенах. Ближе к вокзалу дома были освещены, и на тёмном фоне привычного уральского пейзажа – уходящая вдаль гряда гор, покрытая сосновым лесом, – эти дома выглядели как на картинках из детских книжек. Современный вокзал. Это Миасс. Красивый компактный город. По крайней мере, таким он видится из окна вагона. Здесь делают большие грузовые машины марки «Урал».
Стоянка поезда две минуты. На платформе всего три человека. И ровно через две минуты поезд плавно тронулся. В вагоне началось оживлённое движение пассажиров. Мимо нас пробирались, уступая друг другу дорогу, кто за кипятком, кто в туалет.
Мы поужинали. Я свернул служащую скатертью газету с крошками и обёртками и, стараясь не наступить кому-нибудь на ноги, отнёс в другой конец вагона в ящик для мусора.
Когда сел на место, выключили яркий свет. Остался только такой тусклый, что читать было невозможно. Разговоры стихли. Мой попутчик тоже пошёл стелить себе постель.
Я сидел и смотрел в окно. Скоро будет Челябинск.
А вот и вокзал. Поезд здесь стоит полчаса. Я натянул куртку, сунул в карман фотоаппарат. Чем старше становлюсь, тем сильнее желание запомнить увиденное, особенно то, что как-то связано с детством, юностью. Я снимаю свои поездки, чтобы потом, длинными зимними вечерами, можно было, включив компьютер, мысленно повторить их снова. Пока просматриваешь снимки, кажется, ты сейчас находишься там. Но стоит только отвлечься, и сразу становится грустно и даже больно от сознания, что это ушло в прошлое уже навсегда. Я даю себе слово смотреть реже, чтобы не мучить себя воспоминаниями, но «память – мой злой властелин, всё будит минувшее вновь», и я часто по вечерам отправляюсь в виртуальное путешествие.
Выхожу на платформу. Кругом огни фонарей. У входа в стеклянный переход к вокзалу оживлённое движение пассажиров в обеих направлениях. Поднимаюсь по ступенькам и по переходу попадаю в зал ожидания на втором этаже. Просторно. За стеклянной стеной вокзала светятся огни большого города.
В зале ожидания многие смотрят телевизор, часть пассажиров бродит от киоска к киоску. Многие продуктовые работают всю ночь. Направляюсь к одному из них, где раньше любил заказывать борщ. Сегодня покупаю только коробку ряженки – на завтрак.
Сувенирные киоски в большинстве уже закрыты до утра. Через стекло киоска полюбовался изделиями из уральских камней. На крышках зеленоватых шкатулок серебрятся ящерицы – намёк на сказки Бажова. На других – красивые уральские пейзажи.
Спустился на первый этаж. Здесь перед огромным табло с расписанием стоит фонтанчик с крутящимся на воде гранитным шаром. Красиво. Надо же так рассчитать вес! Заснял на видео. Можно возвращаться в вагон. Сквозь окна перехода вижу вагоны моего поезда, блестящий золотом купол привокзальной часовни и силуэт синей пирамиды расположенного рядом с вокзалом торгового центра.
Яркое освещение вокзала, суета пассажиров, встречающих и провожающих, создают атмосферу, в которой на время забываешь обо всех своих переживаниях.
Поезд покинул город, и прекратился воспетый тысячами поэтов стук вагонов. Сейчас рельсы сваривают. Стыки ещё есть, но только в пределах станции, на стрелках для перехода с одного пути на другой. А после них слышен только равномерный шум колёс. Когда первый раз столкнулся с этим, удивился: нас ещё в школе учили, что рельсы при нагревании расширяются, и чтобы они не погнулись, на стыках оставляли расстояние между рельсами. Правда, и тогда я недоумевал: почему же не только зимой, но и летом в щель между рельсами палец проходил – летом, когда тепло, рельсы должны были сомкнуться. Как же возможно вообще без стыков? Значит, что-то мы не знаем про эти рельсы.
Я ещё долго не ложился спать. Иногда, прикрываясь ладонями, пытался рассмотреть что-то за окном, но кроме верхушек деревьев на фоне ночного неба да редких огней каких-то полустанков, ничего не было видно.
Сложив столик, развернул свой матрас с простынями и подушкой, лёг без надежды скоро заснуть…
Утро. Тишина. Оказывается, стоим в Петропавловске. Мимо меня проходят в тёмно-зелёной военной форме казахстанские пограничники. И смешно и грустно наблюдать, как здоровые мужики проверяют документы у какой-нибудь бабушки, которая приехала навестить своих внуков, или уже возвращается от них. Это похоже на детскую игру. Но какой страшной она может стать! Зачем эти границы! Почему люди не могут жить всем миром, как одной семьёй!
Какое там – всем миром! Тут в одной семье из-за каких-нибудь пустяков происходят такие сражения! Сколько различий есть у людей, из-за которых они могут подраться. А причина везде одна – личный корыстный интерес! Из-за него дерутся дети в семье, ругаются соседи, сражаются классы, враждуют государства.
Пограничников сменили мужчины и женщины с большими сумками – торговцы электроникой и коньяком. Электроника, понятно, китайская, коньяк – казахстанский. Почему-то он дешевле, чем в России. Видимо, казахи пьют меньше. Хотя, сомнительно. Да и русских в Казахстане много. Что-то, видимо, другое.
В девяностые торговля шла прямо на платформе. Каждый прибывший поезд встречала туча продавцов. Продавали всё: дыни, меховые шапки, рыбу во всех видах, колбасу, магнитофоны, велосипеды, насосы, варёную картошку, помидоры, огурцы. Выйдешь из вагона, и тебя начинают соблазнять всем этим. А если сидишь в вагоне, то стоит только посмотреть в сторону окна, как какой-нибудь мимо идущий продавец протягивает к стеклу свой товар.
Сейчас пассажиров из вагонов не выпускают, а вокзал от города отделяет высокая железная решётка, чтобы торговцы не могли пройти к поездам. Одиночки иногда как-то проскакивают, чтобы продать местные дыни. Для этого в сетку кладут по три штуки, чтобы моментально поменять их без сдачи на сотенную купюру.
Когда-то и на Урале, в Усть-Катаве, была такая же торговля. Там стоянка поезда была двадцать пять минут. Две платформы на всю длину были завалены изделиями местных заводов: украшения из уральских камней, уральские пейзажи на срезах дерева. Но не только. Тут можно было купить бинокли, термосы, ножи, ложки, вилки и много чего ещё. На ночь торговцы накрывали свои товары брезентом и оставляли дежурных. Пассажиры, которые ещё не спали, могли у них купить все эти вещи.
Одно время такую торговлю запретили. Видимо, кому-то стали конкурентами. Но сейчас снова можно купить то же самое. Только теперь этим заняты лишь несколько человек. Время дефицита прошло, и доходы таких продавцов, наверное, стали мизерными.
В наши дни мы на таких торговцев смотрим спокойно – бизнесмены. Хотя понимаем: налоги они не платят. А в начале девяностых их считали спекулянтами, и первые из них, ходившие по вагонам, ещё стесняясь, объясняли своё занятие тем, что зарплату, мол, выдали товаром, и поэтому они вынуждены продавать, чтобы выжить. Наверное, у кого-то так и было.
В Петропавловске простояли сорок минут. А когда остались позади дома и улицы Петропавловска, вдоль окон потянулись степи. Кое-где виднелись плоские озёра без берегов, больше напоминающие большие лужи. Ровная местность. Такими же плоскими выглядят и редкие здесь посёлки.
Вот небольшая станция. Из окна вагона видны коротенькие улицы, кое-где рядом с домом стоят машины. Сразу за станцией – ровная степь и небольшой овражек, в котором торчат кусты лозы. На миг я представил себе, что мне придётся здесь жить. Сразу стало тоскливо. Но ведь тому, кто здесь родился, наверное, нет ничего милее этого овражка, где он зимой катался с этой якобы горки, а летом приходил сюда, чтобы из ветки лозы сделать саблю или лук.
И в моём детстве был такой же овражек на картофельном поле. Помню, мама копает картошку, а мы с сестрой её собираем. В перерыв я бегу в конец поля, срезаю лозину, делаю из неё саблю и начинаю сражаться с крапивой.
До сих пор, например, помню и все изгибы речки в деревне, где жили дедушка с бабушкой. Именно по этим изгибам отыскал на спутниковой карте место, где когда-то была эта деревня; где я, не понимая, что делаю, ногами рушил подмытые весенним паводком берега. А иногда мне кажется, что если бы я был свободен от всего, то вернулся бы туда и построил себе дом именно там, даже если бы пришлось жить одному. Это называется ностальгией.
Когда позавтракали, мой попутчик снова продолжил свой рассказ.
Рассказ попутчика 3
В Томск мы выехали рано утром. Машина была не милицейская, а обычная «Лада» с гражданскими номерами. Водитель Щукин, я и Кузьмин – все были в штатской одежде.
Большую часть дороги ехали в коридоре тайги. Для меня это было непривычно, казалось, что лес никогда не кончится. Лишь изредка он расступался и открывался вид на поля и пашни вокруг какого-нибудь селения. Но чаще попадались только дорожные указатели с названиями населённых пунктов, но самих их не было видно: лишь поворот дороги куда-то вглубь леса и непонятно для кого стоящая здесь будка остановки автобусов.
Иногда нас обгоняли спешащие иномарки. Чем ближе к Томску, тем чаще попадались встречные машины, и нам иногда приходилось двигаться сзади какого-нибудь грузовика, и чтобы его обогнать, надо было долго ждать, когда иссякнет встречный поток, или грузовик свернёт куда-нибудь.
Кузьмин объяснил водителю, как добраться до техникума. Сначала мы должны были проехать по улице под названием Иркутский тракт. Я сразу представил каменистую дорогу, по которой ведут закованных в кандалы арестантов. Но оказалось, что это была обычная асфальтированная улица с многоэтажками по обе стороны.
На одном из поворотов мы свернули направо и вскоре уже поднимались по ступенькам невысокой лестницы парадного входа в главное здание техникума. Кузьмин накануне позвонил директору и договорился о времени приезда, поэтому нас ждали. Молоденькая девушка, видимо, секретарь, повела нас в кабинет директора.
Небольшое фойе, стенд с расписанием, горшки с цветами у стенда и на окнах коридора, прошлогодняя стенгазета. Как это знакомо! На какое-то мгновение мне даже показалось, что я иду на занятие. Сейчас откроется дверь, я сяду на своё место у окна. Через минуту войдёт седой учитель математики Михаил Васильевич, который с порога спросит: «А ты, Рябов, почему не сделал домашнее задание?» А я отвечу: «Михаил Васильевич, я всё сделал». Действительно, письменные задания я выполнял всегда. Но с другими студентами он часто попадал в цель. И я до сих пор слышу: «А ты, Шубенков, почему не сделал домашнее задание?» Шубенков начинает оправдываться, а Михаил Васильевич ему: «Садись, два!»
Такие картины иногда на мгновение окрашиваются старыми чувствами настолько, что ты полностью ощущаешь себя в том времени. Эти чувства почему-то всегда такие приятные, но мне ни разу не удавалось удержать их долго – как вспышка молнии, они тут же гасли, и реальность возвращалась. Сознательно я мог бы и дальше вспоминать, но вместо радостного чувства почему-то, наоборот, становится грустно от того, что то время уже никогда не вернётся.
Мы – трое друзей, однокурсников в том же возрасте, что и наша троица на фотографии, – часто проводили время вместе, ходили в кино, делали чертежи и курсовые. Уже на последнем курсе, познакомились с девчонками, и как-то нечаянно я сильно влюбился в одну из них. Мы даже с ней встречались несколько раз, гуляли по городу. Но у меня был соперник, и она предпочла его. Я даже не мог понять: как так, почему меня – такого хорошего – она не полюбила. Позже я понял: я ещё должен был отслужить в армии и жениться не собирался. Я понимал, что два года разлуки – это много. За это время мало ли что может произойти: либо она не дождётся, либо я передумаю. Моего дядю три года ждала девушка, а он, когда вернулся, не захотел на ней жениться. Видимо, все эти мысли у меня были написаны на лице, а девушки это чувствуют. Кстати, и моего конкурента она не дождалась – вышла замуж за уже отслужившего парня. Есть такая песня со словами: «Я тебя не виню – нелегко ждать три года солдата, а друзьям напишу я, что меня дождалась». А я и в армии её вспоминал, и после армии не мог забыть. Как-то познакомили меня с одной. И вот однажды сидим с ней на лавочке, уже почти ночь, соловьи заливаются, я гляжу на неё, вижу знакомый блеск в глазах, и вдруг как охватит то самое чувство, как тогда, в те годы. Кажется, я даже успел прижать её сильнее. Но через мгновение всё прошло, и мне стало грустно. Я понял, что это чувство было не по отношению к ней, а лишь одно мгновение из тех прошлых, которые я испытывал к той. Но когда встретил будущую жену, всё старое как будто стёрлось из памяти. Сейчас даже имя последней, не помню.
В кабинете директора техникума нас встретила женщина примерно лет сорока пяти, довольно привлекательная на вид. Чёрное платье с платком на плечах, и какая-то сложная причёска делали её похожей на известную артистку. Когда мы представились и рассказали, зачем приехали, она вышла, и было слышно, как она посылает уже знакомую нам девушку – секретаря, по имени Вероника, – позвать Полину Ивановну. Пока я пытался угадать, кто же это может быть, в кабинет вошла женщина лет за пятьдесят, напомнившая мне мою классную руководительницу в школе: темно-синий костюм, аккуратно зачёсанные назад в пучок начавшие седеть волосы. Директор пояснила, что Полина Ивановна работает её заместителем по учебно-воспитательной работе, поэтому, в отличие от преподавателей, её отпуск уже закончился.
– Полина Ивановна, вы же работали десять лет назад, посмотрите на снимок, не помните этих ребят? Скажите хотя бы, из какой они группы.
Поглядев на фотографию, та утвердительно кивнула головой:
– Да, я с третьего курса вела эту группу и знаю, наверное, всех. Вот этот слева – Пузанов Вася, в центре – Щербаков Володя. А вот этого справа я не знаю. В их группе такого не было.
– А этот точно Щербаков? – недоверчиво спросил Кузьмин, показав на парня, которого мы считали Черкасовым.
– Не сомневайтесь, я их хорошо помню. Пузанов и Щербаков сначала учились хорошо: на четвёрки и пятёрки. А на втором курсе «съехали» на тройки и даже стали получать двойки. Мы их перевели на платное обучение и выселили из общежития. Я подумала, что парни в эти годы часто влюбляются и им становится не до учёбы. Но, слава богу, вскоре они взялись за ум, двойки исправили, а дипломную работу написали вовремя и даже неплохо.
– А где они жили, когда их выселили из общежития?
– Вот этого я не знаю, мы такого учёта не ведём.
– А были ли задержки с оплатой обучения?
– Нет, всегда платили вовремя. Они оба из вашего города. Я сейчас поищу их адреса.
– Подождите, – остановил Кузьмин уже повернувшуюся к выходу Полину Ивановну. Посмотрите на этот фоторобот. Может, эта девушка тоже училась в те годы?
– Знаете, память у меня хорошая, но здесь же не шестнадцатилетняя, поэтому, конечно, могу ошибиться. Но нет, такая у нас не училась.
Пока ждали возвращения Полины Ивановны, директор нам рассказала про техникум: когда был основан, на кого учат, где работают выпускники. Чувствовалось, что она говорила всё это не один раз. Видимо, все начальники выучивают наизусть текст, который произносят, когда им приходится перед кем-либо отчитываться. Для них это, как в пословице, одежда, по которой их встречают.
Когда Полина Ивановна принесла адреса, мы с Кузьминым поняли, что больше здесь уже ничего не узнаем, попрощались и пошли к выходу. Результат нашей поездки всё-таки был: теперь двоих парней объединяла не только фотография. Как оказалось, они вместе учились, и их поведение во время учёбы вызывало вопросы.
По-другому виделась теперь и роль блондинки – в обеих делах (убийство Черкасова и пропажа Бородина) она приобретала зловещий характер. Я был убеждён, что это одна и та же девушка, и Бородина тоже нет в живых. Непонятно только было: выполняла она чей-то заказ или это была её личная месть.
Опять мы шли по коридору мимо стенда с расписанием, мимо цветов на окнах. У выхода в нише стены (поэтому я и не увидел её сразу) в большом квадратном ящике с землёй росла пальма.
Когда вышли, я сказал:
– Вот, что значит, гражданский объект – кругом цветы, уютно, не то, что наши кабинеты – одни столы да бумаги. Ну, что будем делать? Едем, займёмся Черкасовым, который оказался Щербаковым? Больше у нас ничего нет.
Кузьмин задумчиво смотрел перед собой. И вдруг:
– Цветы, говоришь? Точно, цветы. Постой-ка. Я сейчас, на минутку…
Он быстро вбежал на крыльцо, рывком открыл дверь, как будто куда-то опаздывал.
Вернулся он минут через пять, посмотрел на меня повеселевшим взглядом:
– Поехали! Но только не домой, – и продиктовал водителю адрес.
– Что случилось? – спросил я.
– Ты видел – земля в цветочных горшках сырая? А когда мы заходили, была сухая. Значит, пальму кто-то полил при нас. Она как раз шла мне навстречу с ведром воды. Это Захарова Евдокия Владимировна. Пожилая женщина, значит, могла помнить кого-то из этой троицы, если работала в то время. Я показал ей фотографию. Она тоже узнала двоих парней. Не помнит только их фамилии. Кто такой третий, она не знает. Но когда я открыл папку, чтобы положить фотографию, она увидела фоторобот блондинки и узнала в ней внучку технички Семашко Галины Дмитриевны. Звать её Марина. Несколько раз она приходила к бабушке. Вскоре Семашко вышла на пенсию, и больше Захарова её не видела. Живёт она в своём доме. Улицу и номер дома не помнит, но как найти, рассказала. У неё свой дом. Сейчас мы едем к ней. Узнаем про эту Марину.
В машине стало как-то веселее. Я заметил, что Кузьмин несколько раз улыбнулся. Мне тоже захотелось.
Частный сектор окраин города – это красивые кирпичные дома, иногда двух и трёхэтажные, вперемешку с деревянными развалюхами, вызывающими чувство жалости, как при виде старого больного человека.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



