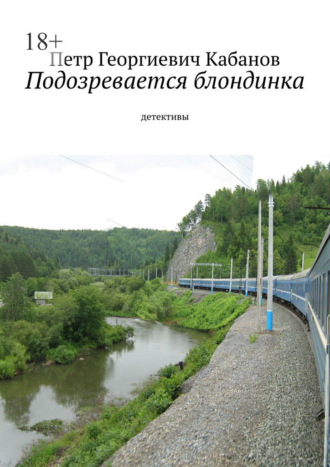
Полная версия
Подозревается блондинка. Детективы

Подозревается блондинка
Детективы
Петр Георгиевич Кабанов
Редактор Ксения Петровна Кириченко
Консультант Александра Леонидовна Кузьменко
© Петр Георгиевич Кабанов, 2025
ISBN 978-5-0067-7887-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Подозревается блондинка
1. Рассказ автора (в поезде в наши дни)
В наше время билет на любой поезд можно приобрести где угодно, лишь бы работал интернет. И в этом году я прямо в своём селе купил билет на удобный мне поезд Адлер – Красноярск. Но чтобы занять своё место в вагоне, мне ещё надо было добраться сначала до Воронежа на автобусе, а потом на электричке до станции Лиски. Эта станция стоит на перекрёстке железных дорог. Через неё когда-то ходил поезд Харьков – Владивосток, на котором я часто приезжал сюда и возвращался в Сибирь.
Я возвращался из поездки на свою родину, в одно из сёл под Воронежем. Поправил могилы родителей, дедушек и бабушек, повидался с родственниками, встретился с одноклассниками.
Первые километры ехал с комом в горле. Сознание того, что уже не вернутся твои юные годы, проведённые здесь, и что ты уже никогда не сможешь обнять твоих родных и близких, рождает тяжёлое чувство вины. Перед глазами всё ещё были могилы, которые только что посетил. Как бы мне хотелось в эти минуты, подойти к отцу, к матери; упасть перед ними на колени, попросить прощения за всё: за то, что не всегда слушался в детстве, что не обнимал и не целовал их, что уехал из дома; за то, что не часто звонил и приезжал только раз в год; за то, что их уже нет, а я ещё есть. Но ничего уже не исправить, и никто уже не сможет меня простить.
В поезде не раз встречались такие же, как я. Однажды напротив меня сел мужчина моих лет. Внешне он был похож на артиста Михайлова из кинофильма «Мужики». Он не разговаривал, долго смотрел в окно. Я к этому времени уже немного отошёл от горечи расставания с родителями – тогда они ещё были живы. Я собрался поесть. Достал помидоры, налил в кружку чай. Мой попутчик, по идее, тоже должен был уже проголодаться, но он продолжал смотреть в окно. Я подумал: может, у него ничего с собой нет, и настойчиво предложил ему присоединиться. Он не отказался и немного поел вместе со мной. Мы разговорились. Оказалось, он был на родине и сейчас возвращается туда, где у него работа, дом, семья.
Потом он уже сам угощал меня. Жена его брата приготовила ему в дорогу много разных продуктов. И мне стало ясно, почему он так долго не хотел есть – он тогда был в похожей ситуации и чувствовал то же самое, что и я, когда садился в поезд.
Мы долго беседовали о разных вещах. Он пригласил меня к себе в гости, обещал свозить на рыбалку. Конечно, мы с ним больше никогда не встретились. Жили бы рядом, возможно, стали бы хорошими друзьями.
Но были и другие случаи. Вот так же разговорились с одним пассажиром, тоже моего возраста (мне тогда было чуть больше сорока). Я рассказал о своих переживаниях из-за того, что не живу рядом с родителями. А он сказал, что ему это странно: у него отец уехал в другой город, а сам он тоже переехал даже в другую область, и они почти не общаются.
Для меня это было дико – ведь это же родные люди.
Я не люблю купейные вагоны. В них чувствуешь себя как в клетке, особенно если попутчики попадутся неразговорчивые. А бывает так, что соседи по купе закроют шторку на окне и спят не только ночью, но и весь день. Приходится выходить в коридор и там в проходе стоять перед окном, мешая тем, кто направляется за чаем или в туалет. Поэтому я предпочитаю ездить в плацкартных вагонах. Особенно мне нравятся нижние боковые места, где, опираясь локтями на столик, можно сидеть целый день и даже всю ночь – никому не мешаешь. Здесь со своего места можно наблюдать, что происходит в вагоне и видеть, что делают соседи, что проплывает за окнами с двух сторон поезда. Здесь мимо тебя за день пройдут почти все пассажиры вагона – одни входят, другие выходят, кому-то надо за чаем, кому-то – в ресторан.
Иногда в вагоне тихо, а иной раз попадаются шумные компании.
Как-то ехал вместе с китайцами. Ими были заняты почти все боковые места. Они бегали по вагону, смеялись, что-то передавали друг другу. Я чувствовал себя сидящим на базарной площади. Когда они сошли, и в вагоне не осталось ни одного китайца, стало тихо, хотя все их места заняли новые пассажиры.
В пути часто находишь собеседника, с которым порой и сам разоткровенничаешься. Иногда доходит и до обмена адресами, хотя понимаешь, что вряд ли ещё когда-нибудь удастся встретиться. По крайней мере, у меня такого не случалось. А люди попадались разные. Большинство забываешь быстро, но некоторых помню до сих пор.
Бывает так: какая-либо встреча, переворачивает душу, и потом ты все свои поступки, так или иначе, сверяешь с тем, что узнал от собеседника: или одобряешь свои действия, или ругаешь себя за отступления от того, как надо было поступить. Такие встречи иногда подвергали сомнению всю мою жизнь, и предо мной открывались её недостатки. Хотелось сразу же начинать исправляться.
Больше всего мне нравилось в рассказах попутчиков то, как человек преодолевал препятствия в положении, которое казалось безнадёжным. Я сравнивал себя с ними, и мне казалось, что я всю жизнь был какой-то болванкой, зажатой в токарном станке, из которой жизнь вытачивала нужную ей деталь. А тут я вижу, как человек навязывает свою волю обстоятельствам и делает свою жизнь такой, какой считает нужной. Я всегда завидовал таким людям.
Как-то я был в командировке в областном центре и оказался в одном номере гостиницы с бывшим лётчиком. Мы проговорили всю ночь. Он рассказал, как однажды его самолёт упал, а сам он повредил позвоночник. Когда он лежал на операционном столе, то услышал разговор врача с анестезиологом о бесполезности операции. Наркоз ещё не успел подействовать, и у него хватило сил вцепиться в халат врача и зло сказать ему: «Давай, делай операцию!»
Через год он уже был в состоянии обходиться без врачей, и надо было решать, что делать дальше. Было понятно: летать он уже не сможет. Он стал думать, чем заняться. Пошёл в ученики к сапожнику. Научился шить тапочки, сапоги, туфли. Потом нашёл свою нишу – стал шить нестандартную обувь. Точнее, сапоги на нестандартные ноги. Посыпались заказы, чаще от жён людей побогаче (остальные как-то обходились сами). Появились деньги. В те времена мужчине без прописки в областные центры можно было переехать, только если купишь жильё или женишься на местной. У него хватило денег на покупку кооперативной квартиры в Москве. А в наш областной центр его пригласили для консультации по организации производства обуви разных размеров на местном комбинате бытового обслуживания.
Его рассказ сильно подействовал на меня: потеряв здоровье и любимую работу, он остался хозяином своей судьбы. Другой мог бы спиться, превратиться в бомжа, радующегося каждой лишней кружке пива. А ведь это самое главное для человека – не поддаваться своим сиюминутным страстям, не идти на поводу у обстоятельств, а поступать свободно. Такие люди вызывают симпатию, и у женщин в первую очередь.
Я уже давно не спал, убрал наверх матрас, поднял столик и сидел, глядя в окно. Передо мной вокзал станции Абдулино. Здесь поезд стоит двадцать пять минут. Несколько пожилых женщин с корзинами, из которых торчали бутылки с водой и булки хлеба, ходили вдоль вагонов.
Справа от меня на нижнюю полку устраивался пассажир примерно моих лет. Седые, поредевшие волосы ёжиком, без залысин. Он был среднего роста, с полнотой пожилого человека, но движения были уверенные, видимо, результат профессии, связанной с постоянным движением. Закончив стелить постель, он обратился ко мне:
– Вы не против, если я присяду?
– Пожалуйста, садитесь. Можете завтракать.
– Ну, завтракать мне не надо. Я только что из-за стола. Далеко едете?
Я назвал свой город.
– О! Я был в вашем городе. Правда, уже давно.
– А здесь живёте?
– Нет, живу я в Самаре, а сейчас еду в Красноярск к дочери. Она училась в Москве. Там познакомилась с парнем из Красноярска. Пока жива была жена, в гости ездили вдвоём. Теперь вот – один. Дочь зовёт меня к себе, но я пока ещё на ходу, и уезжать не хочется – здесь родня, друзья, знакомые. Сын рядом в Тольятти живёт. Вот когда не смогу сам передвигаться, тогда, может быть, и перееду к ней. Я на пенсии, время есть, сейчас вот по пути заехал в гости к двоюродным братьям. Они намного моложе меня, и ещё работают. Оба машинисты электровозов.
Городок небольшой – около двадцати тысяч. Обратите внимание: на каком бы удалении от Москвы ни находилась станция, местное время у большинства населения – московское. Почему? Почти все жители заняты обслуживанием железной дороги: машинисты, сцепщики, ремонтники, диспетчеры. А ещё есть категория жителей, которые на платформах торгуют во время остановок поездов. Раньше продавали выращенные самими помидоры, огурцы, яблоки, варёную картошку. Сейчас стало выгоднее покупать продукты в магазине и перепродавать их: покупатель видит, что продукты из магазина, и не боится их покупать. Правда, варёную картошку и огурцы ещё продают.
Я с детства слышал гудки паровозов, стук колёс на стыках рельсов, сигналы станционной связи железнодорожников. И даже сейчас в шуме большого города часто узнаю эти звуки. Они мне кажутся родными.
Во времена паровозов, их меняли примерно через сто двадцать километров. Такие станции назывались бригадными, потому что паровоз обслуживали бригады из трёх человек: машинист, его помощник и кочегар. На бригадных станциях они отмывались от угольной пыли, отдыхали и потом возвращались домой. Абдулино и сегодня – бригадная станция, здесь меняют электровозы. Поэтому и стоянка поездов здесь – двадцать пять минут. Электровозы за то же время пробегают в два-три раза больше, поэтому их меняют уже в среднем через триста километров. Многие бригадные станции превратились в обычные, но Абдулино сохранило своё назначение – это последняя станция в Оренбургской области, дальше – Башкирия. И следующая большая стоянка будет только в Уфе.
Посмотрите, мы как будто въезжаем в туннель. Это значит, закончилась Оренбургская область и начинается Башкирия. Сейчас выберемся на плоскогорье, и начнутся башкирские пейзажи. Их ни с чем не перепутаешь. Это большие долины, окружённые пологими холмами. То там, то здесь пасутся коровы, телята, овцы и лошади. Здесь много противотуберкулёзных санаториев, и лошади нужны для изготовления кумыса – он помогает больным.
Единственное, что мешает любоваться местностью, – это лесопосадки вдоль железной дороги. Иногда они тянутся километрами, а за ними остаётся скрытым от глаз то, что мы называем Россией. Неужели они и сейчас нужны, эти насаждения! Ведь их применяли, когда были снежные заносы. А в наше время я ни разу не слышал, чтобы где-то снегом занесло железнодорожный путь. Железная дорога стала другой: высокие насыпи, мощные рельсы, сильные тяжёлые электровозы, которым никакой буран не страшен, а вот количество лесопосадок всё увеличивается. В конце концов, можно же оставить их только с одной стороны – с той, где нечего смотреть, и убрать с той, где мешают смотреть на деревни, на долины с пастбищами и засеянными полями, на овраги и холмы. Тогда и Транссиб может стать привлекательным для туристов. Разве не интересно будет туристу из какой-нибудь маленькой страны проехать всю Россию, чтобы почувствовать её размеры? А что ему смотреть, если с двух сторон однообразные посадки! Как вы считаете, я прав?
– Да, мне тоже иногда хочется разглядеть что-то, но посадки мешают, – согласился я.
– Давайте познакомимся: Анатолий, – протянул мне руку мой собеседник. Я назвался.
Мы ещё долго разговаривали на разные темы. Потом он спросил:
– А вы знаете в вашем городе следователя Кузьмина?
– Лично не знаком, но слышал о нём.
– А я познакомился с ним почти двадцать лет назад. Я тогда работал в угрозыске, и мне однажды пришлось побывать в вашем городе. Вместе мы раскрыли одно преступление.
– Интересно. Люблю детективы. Можете рассказать?
– С удовольствием расскажу. В газете же об этом не напишут. А стоило бы.
Шум колёс усилился – мы ехали по мосту. Река Белая (Агидель, по-башкирски). Справа – высокий берег с памятником Салавату Юлаеву. На высоком постаменте – всадник с поднятой плетью. Чем-то напоминает памятник Петру I. Только заметно, что этот побольше.
Сразу за мостом, справа, пошли домишки, карабкающиеся вверх по довольно крутому склону. Всякий раз, когда я вижу эту картину, мне кажется, что жить в этих домах опасно: любой камень, если покатится вниз, может причинить немало бед тем, кто живёт внизу.
Но вот уже и вокзал с красным куполом – Уфа.
Мы вышли на перрон. Чтобы пройти в вокзал, надо подняться по переходу. По молодости я всегда успевал сходить в зал ожидания и выпить коктейль из молока и мороженого. Но сейчас его уже не продают, и больше идти туда не за чем: на платформе стандартные киоски, где можно купить всё необходимое.
Через двадцать пять минут мы покинули Уфу. В окне слева несколько раз открывался вид на реку Белую, потом поезд попал в коридор однообразных низкорослых деревьев. Смотреть было нечего.
Я расстелил на столике газету и пригласил Анатолия.
– Присаживайтесь, попьём чаю, и вы расскажете о вашем расследовании.
– С удовольствием, – согласился Анатолий.
Когда он начал свой рассказ, я понял, что «с удовольствием» относится не только к чаю. Рассказывал он именно с удовольствием: пародировал речи участников событий, часто отвлекался от темы, приводил разные подробности, большинство которых я уже не могу пересказать, потому что просто не запомнил.
Рассказ попутчика 1
В девяностые годы я работал в угрозыске в районном отделении Самары. Вы помните, какими были те годы: организованная преступность процветала, заказные убийства следовали одно за другим, их не только не успевали раскрывать, но иногда даже и не пытались – только отыщешь свидетеля – его убьют. Но в начале двухтысячных что-то случилось «на верху», в стране стали наводить порядок, и все наши отделы начали работать, как положено.
И вот очередной «огнестрел». 16 июля в квартире владелицы двух магазинов, сорокалетней Эльвиры Леонидовны Маркиной, был убит её сожитель, Владимир Сергеевич Черкасов. Худощавый молодой человек лет тридцати, среднего роста, блондин, таких ещё белобрысыми называют.
В квартире чужих отпечатков не нашли. Экспертиза извлечённой пули показала, что пистолет «Макаров» был «чистым», то есть, чей он и откуда, узнать не удалось. В те годы такое бывало часто.
Выстрелов никто из соседей не слышал, значит, пистолет был с глушителем. Черкасов по уголовным делам не проходил, и его отпечатков в картотеке милиции не было. По словам Маркиной, сожитель у неё появился недавно – полгода назад.
Опросили соседей, может, кто видел в тот день незнакомых людей. Одна из жительниц сообщила: в дверной глазок видела молодую женщину, которая звонила в квартиру Маркиной. Ещё две пожилые соседки рассказали, что сидели на лавочке перед подъездом, и мимо них прошла стройная блондинка в джинсовых брюках и тёмно-синей спортивной куртке. Никаких особых примет соседи у блондинки не заметили. Вот и всё, что мы о ней узнали. Откуда она и кем приходилась Черкасову, было неизвестно.
С помощью соседок составили фоторобот блондинки и послали его в Москву. Там такой на учёте тоже не было.
Выяснилось, что паспорт Черкасова фальшивый: паспорт такой серии и номера никому не выдавали. Где он его приобрёл, неизвестно.
Тогда в стране уже многие стали пользоваться сотовыми телефонами, хотя стоили они ещё довольно дорого. Номер телефона Черкасова был в телефоне Маркиной (сам телефон, видимо, унесла с собой блондинка). Установили владельцев телефонов, с которыми он связывался. В основном это были поставщики и покупатели. Распечатка звонков показала, что чаще всего он звонил Маркиной, и круг его абонентов был таким же, как и у неё.
Проверяли несколько версий. Первая: убийство организовали конкуренты Маркиной – сожителя убили, чтобы запугать Маркину. Вторая: рэкетиры расправились с ним за отказ Маркиной платить «дань». Третья: месть первого мужа Маркиной. Четвёртая: убийство из-за наследства (у Маркиной был единственный сын, который мог испугаться, что мать выйдет замуж за сожителя). Пятая: Черкасова убила сама сожительница – Маркина. Шестая: блондинка свела с Черкасовым личные счёты, нам неизвестные.
Ни одна из версий, связанных с бизнесом, не находила подтверждения. Конкуренции в то время практически не было, если только магазины не стояли совсем рядом. Проверка бухгалтерских книг показала, что рэкетирам убивать его тоже не было резона – было видно, что часть выручки стабильно уходила им. Тем более что нам было известно, кто «крышевал» Маркину, да и сама она заявила, что этого не могло быть, так как никто ей не угрожал. У её первого мужа была новая семья, ему уже давно было не до Маркиной, а в день убийства он был на смене, и его видели десятки людей. Наследство матери тоже вряд ли интересовало её единственного сына – он служил в армии, ни в чём не нуждался и, по показаниям всех, мать свою любил и мог бы принять любое её решение. Маркиной тоже не было смысла убивать своего сожителя – он не мог претендовать на её имущество, а по словам самой Маркиной и её соседей, жили они дружно. Проверили и её знакомых – у всех было алиби. Уже хотели прекратить расследование, но начальник отдела приказал продолжить.
А что искать, кого подозревать? Ключевой фигурой в этом деле для нас стала блондинка. Правда, Маркина и её работники сообщили: Черкасов как-то сказал, что у него есть сестра, но никаких данных о ней не было. Да разве по фальшивому паспорту брата определишь, кто она! Возможно, он связывался с ней по мобильному телефону, но телефона при убитом не было. А в распечатке номеров из телефона Маркиной номер сестры тоже отсутствовал, видимо, он звонил ей с другой симки. Была ли блондинка его сестрой, убийцей или и тем, и другим – мы не знали.
Но была ещё одна зацепка. В кармане убитого, в его записной книжке, нашли фотографию. Она нас сразу насторожила: фотография старая (криминалист определил – бумаге около десяти лет), но почему-то именно её он носил в кармане. На фото три улыбающихся парня, на вид одного возраста, стояли у стены какого-то здания. Слева – кудрявый брюнет в тёмно-серой куртке, в центре – наш пострадавший в светлой куртке на молнии, справа – парень в тёмном спортивном костюме с русыми, зачёсанными назад волосами. Про цвет я говорю предположительно – фото было чёрно-белым. Про обувь сказать было нечего – снимок сделан по пояс.
Эксперт-криминалист поколдовал над снимком и выдал нам следующее: это здание стоит с северной стороны от фотографа. Так как парни одеты в куртки, значит, не лето, а осень, а такое освещение здания возможно только в полдень. На стене есть светлые вертикальные плоские выступы – они называются лопатками. Это я у городского архитектора узнал, а то меня начальники всё время спрашивали, что это за выступы, про которые я говорю. На фотографии они светлые, очевидно, белые, а сама стена тёмная, значит, выкрашена какой-то краской, предположительно, зелёной. В кадр попали часть входной двери и часть окна и рамы. И ещё: на стекле окна – отражение столба, не очень толстого, скорее всего, металлического. Наверное, это был фонарь.
Нам оставалось только найти это здание и разыскать этих парней. Легко сказать – по кусочку стены определить здание! Сколько их в городе. Парни могли сфотографироваться у входа в подъезд, в общежитие, в учебное заведение – в общем, было понятно: искать придётся долго. Было бы фото цветное, это облегчило бы поиск, но что поделаешь…
Решили проверить всю Самару. Вот уж я и побегал тогда! Выучил названия всех улиц и переулков. Можно было переходить на работу в такси. Но такого здания так и не нашёл – выступы то шире, то уже, или одного цвета со стеной; то рама другая; то расстояние между дверью и окном не такое.
Но тут мне понадобилось выехать в Красноярск – на свадьбу дочери. Начальник угрозыска дело закрыть не разрешил, сказал: «Приедешь – продолжишь».
Поехал я один, жена не смогла: накануне повредила ногу – споткнулась о ступеньку, неудачно упала и получила перелом. Гипс ещё снимать нельзя, а в вагон с ним не залезешь. Билет я купил, как и сейчас, на поезд Адлер – Красноярск. Отправление поезда было в два часа ночи, и чтобы не опоздать из-за какой-нибудь случайности, я приехал пораньше. С собой у меня была только большая сумка с необходимыми в дороге вещами и подарками для дочери. Вокзал новый, внутри очень удобный: можно сесть прямо перед переходом на нужную платформу. Но он до сих пор не кажется мне уютным – то ли потолки низкие, то ли помещения небольшие, хотя он считается самым высоким вокзалом в Европе.
Я люблю вокзалы. В них ты как дома: отсюда не прогонят ни днём, ни ночью. А когда купишь билет, так вообще чувствуешь себя хозяином – даже если город чужой, то вокзал хоть на время, но твой. Вокзалы всегда хорошо освещены, как будто здесь всегда день.
Большинство вокзалов выглядят красиво. Их своевременно красят, за территорией ухаживают. А на маленьких станциях вокзал —иногда единственное приличное здание во всём населённом пункте.
Из того, что я видел, мне больше всего понравился челябинский. Он такой уютный и просторный. В центре первого этажа нет потолка, и со второго этажа пассажирам виден весь первый этаж: пассажиры у касс, широкая лестница на второй этаж, большой экран со списком стоящих поездов и временем их прибытия и отправления. Весь второй этаж – это зал ожидания, соединённый с переходом к платформам. Здесь для пассажиров есть всё. В стеклянном переходе на табло тоже указаны номера и названия поездов, номер пути и платформы и время отправления. Да к тому же поезда видны сверху через стекло. А если у кого зрение плохое, то все объявления хорошо слышно в любом месте вокзала. Кругом киоски и буфеты с различными товарами. Поесть сейчас или взять в дорогу – пожалуйста…
Я сидел и вспоминал вокзалы, в которых мне приходилось побывать. И вдруг…
Всегда удивляюсь, почему нужные мысли не приходят сразу, а им нужен какой-то случайный толчок. Я подумал: а почему мы искали здание в Самаре? А если оно в другом городе, и не обычное здание, а, например, вокзал? Но для нас – это ещё хуже. Тут всю Россию придётся проверять. Конечно, даже только вокзалы все проверить нереально, но сделать запрос в транспортную милицию, отправить им фотографию – пусть проверят – вполне возможно. Останется только подождать сообщения.
Но начать проверку я уже мог сейчас! И я начал рассматривать все вокзалы, что попадались по дороге. Я не взял с собой снимок троицы на фоне здания, но настолько помнил все его детали, что в фотографии уже не нуждался. Я и так бы узнал вокзал, попадись он мне на глаза.
Договорился с проводницами (я им рассказал, что мне нужно), и они даже ночью будили меня на каждой станции, кроме тех, где вокзал был явно не похож на здание с фотографии, например деревянный или весь из кирпича.
До Челябинска нужный вокзал должен был находиться на западной стороне дороги, то есть с левой стороны по ходу движения поезда, а после Челябинска – на южной, то есть с правой стороны вагона. Но я проверял с обеих сторон, потому что иногда дорога делает такие повороты, что западная сторона вокзала оказывается на востоке. Да вы и сами, наверное, знаете: так, например, стоит вокзал в Новосибирске. Кстати, повороты железной дороги плавные, и если не смотреть, с какой стороны солнце, то не догадаешься, когда поезд меняет направление, кажется, что всё время едешь прямо.
Рассматривая вокзал, я быстро находил то, что делало его непохожим на тот, что был на снимке, то, что могло бы точно указать на несоответствие с ним. Так быстрее – нашёл такую особенность, и больше смотреть не надо. Всего одного взгляда достаточно, чтобы увидеть эту разницу.
Из Самары в сторону Уфы я ездил часто, поэтому знал, что первый вокзал – совсем непохожий, стеклянный, – на станции Новоотрадная, а у следующих, в Похвистнево и Бугуруслане, детали стен, дверей и окон совсем другие. Первый похожий вокзал был как раз на станции Абдулино. Вы сейчас его видели – я сел на этой станции. Я же родом из Абдулино, только после армии переехал в Самару. Здесь я бывал часто и знал: никаких столбов напротив входа не было. Но это ещё ничего не значит, может, на снимке было отражение какого-либо груза на стоящем рядом с вокзалом товарном вагоне. К тому же с последней поездки прошло два года, и всё могло измениться.
Когда поравнялись с вокзалом, я сразу увидел: светло-зелёный цвет стен вокзала не имел такой разницы с белым цветом выступов, как на снимке. Очевидно, стены на снимке были выкрашены более тёмной краской. Но я видел, что вокзал покрасили совсем недавно, он имел свежий вид, а раньше краска была более тёмной. То есть цвет не имел значения, отличие же было в другом: ширина выступов на стене не соответствовала ширине выступов на снимке.



