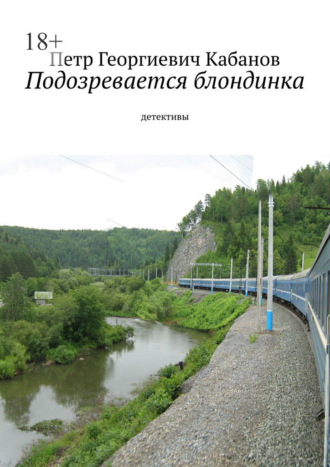
Полная версия
Подозревается блондинка. Детективы
Следующий вокзал после Абдулино, на станции Талды-Булак, был образца 1891 года. Красивый, стены тёмно-жёлтые, наличники, фронтон и угловые выступы – белые. Но никаких вертикальных плоских выступов не было.
Подходящим выглядел следующий вокзал – на станции Приютово. Он тоже с западной стороны. Но и он не подходил: светлые выступы на стене были намного ỳже. Следующие станции: Аксаково, Глуховская, Аксеново, Раевка, Шингак-Куль и Давлеканово – были из серого камня, неоштукатуренные. Такие вокзалы строили тогда же, когда начали строить саму дорогу – в 1891 году. Эту дату я видел ещё в детстве, она стоит на сохранившихся кое-где чугунных кружочках, вделанных в стены. А на станции Раевка её выписали крупными объёмными цифрами на фронтоне вокзала.
Следующая станция – Чишмы. Когда подъезжаешь к станции, ждёшь появления огромного вокзала: здесь так много путей. Станция узловая, отсюда идёт ветка в Татарстан. Но сам вокзал одноэтажный, невысокий, и не совпадает с тем, что на нашей фотографии. Здесь техническая остановка пассажирских поездов: вагоны заправляют водой и выгружают мусор. Сразу вспомнилось: «Деньги есть – Уфа гуляем, денег нет – Чишма сидим». Эту байку (именно так её и произносят с башкирским акцентом) знают и те, кто живёт далеко от этих мест. Но, как оказалось, в ней речь идёт не о городах, а о ресторане «Уфа» и кафе «Чишмы» на улице Ленина в Уфе. Понятно, что во фразе был намёк на то, что в ресторане всё дорого, а в кафе намного дешевле.
Далее был вокзал станции Юматово. Это тоже типичный вокзал 1891 года.
На станции Дёма – последней перед Уфой – вокзал новый и из красного кирпича, никаких светлых выступов нет. А старый вокзал вообще был деревянным.
После Уфы опять пошли маленькие станции с вокзалами из камня. Но я всё равно проверил их все: мало ли что, вдруг парни на фотографии отсюда.
Перед Ашой проехали место, где в 1989 году сгорели два пассажирских поезда: Новосибирск – Адлер и Адлер – Новосибирск. Вы, наверное, слышали: они одновременно вошли в газовое облако, образовавшееся из-за прорыва газопровода, и в это время то ли от искры, то ли от выброшенного окурка газ взорвался, и вагоны загорелись. Погибло около шестисот пассажиров. Сейчас с дороги виден памятник погибшим. Мы сейчас как раз подъезжаем. Давайте прервёмся и посмотрим. Потом мне надо будет измерить давление и принять лекарство. Возраст, знаете. Я ещё успею вам рассказать про своё дело.
2. Рассказ автора (в поезде в наши дни)
Пока мой попутчик был занят своими делами, я любовался уральскими пейзажами. Мы ехали по Челябинской области. После Аши были красивые вокзалы старой постройки: Кропачёво, Вязовая, Бердяуш. Это был уже горный Урал. Здесь железная дорога иногда делала длинные, плавные повороты, и в окно можно было увидеть, как на фоне крутого склона горы по блестящим на солнце рельсам, в коридоре из столбов и проводов с красными и зелёными огоньками светофоров, бегут задние или передние вагоны твоего поезда. Ещё более завораживающий вид открывался, когда автомобильный мост пересекал реку. Вершины сосен делают более неровной и без того ломаную кривую окружающих гор, а тут – как проведённая по линейке прямая линия моста. Так красиво!
Дикая природа – это дело вкуса: одному нравятся горы, другому – тайга, третьему – степи. Но почему мы все, когда видим красивую местность, называем её второй Швейцарией? Да потому что обычный пейзаж в Швейцарии – это гора и расположенный на её склоне городок. Так и кажется, что гора защищает его не только от ветра, но и от всяческих невзгод. Местность выглядит красивой, когда мы находим природу в единстве с творением человека. Горы на Урале без признаков присутствия людей выглядят неуютными. Швейцария же заселена плотно, там везде мы замечаем присутствие человека: белые дома с красно-коричневыми крышами, разноцветные полосы полей и виноградников. И когда на фоне уральских гор видим город или посёлок, мы тоже восклицаем: «Как в Швейцарии!»
Мои поездки этим маршрутом в основном приходились на лето. И сколько раз проезжал здесь, каждый раз находил что-то новое, не замеченное мною раньше.
Иногда и в августе бывают жаркие дни. Вот и сегодня вдоль реки, среди деревьев, то там, то здесь видны кучки автомашин и людей, приехавших искупаться и позагорать. Кое-где мелькают разноцветные палатки туристов. На перекатах, стоя почти по пояс в воде, рыбаки машут длинными удилищами.
Самые красивые места здесь – на перегоне Усть-Катав – Вязовая. Несколько лет назад машинисты электровоза, видимо, очарованные этими местами, установили в кабине видеокамеру, сняли свою поездку и выложили видеоролик в интернет. И хотя снимали в ноябре, когда кругом уже лежал снег, и речка под сугробами только угадывалась, всё равно получилось красиво. Есть в интернете и короткий ролик, снятый осенью. Когда-нибудь снимут и летом. Есть же сайт, на котором выложено видео поездки по Транссибу от Москвы до Владивостока, со временем появится и видео его южной ветви.
Раньше я удивлялся, как сюда добирались, когда не было ни железных, ни обычных дорог – здесь же непроходимые места! Но потом догадался: зимой на санях по речкам! Когда они замёрзнут, лучше дороги не придумаешь – ровный лёд, никаких спусков и подъёмов, лошадям легко. А речек здесь много. Вот и сейчас за окном блестит одна из них. Кажется, вдоль неё мы едем уже много времени. Но это не так. Карта говорит, что после Уфы это уже четвёртая. Сначала была речка Сим, потом Юрюзань и Вязовая, а сейчас это уже Ай.
За столик снова сел мой попутчик.
– Я в тот раз увидел здесь странные названия станций: Юрга, Анжерская, Яя. Вы же из здешних мест; не знаете, почему их так назвали?
– Точно не могу утверждать, но я тоже интересовался этим, – среагировал я на вопрос попутчика. – Почему станция Юрга, я понял после фильма «Урга». Это с монгольского – «степь». Будем проезжать, увидите: сразу за Юргой будет река Томь, и по обеим берегам нет деревьев, как в степи… Как-то по телевизору объясняли, почему деревья там не растут, но я уже не помню. Часто названия городов происходят от названий рек. Реки же раньше появились. Томь – Томск, Омь – Омск. Станция Анжерская получила название от речки Анжера. Посёлок Яя стоит на реке с таким же названием. Я думаю, в этом названии повторяется слово «вода». Есть много названий рек с окончанием на «я»: Зея, Чуя, Бия, Кия, Ея. Есть ещё и Ая, и Оя, и Уя. Что означают первые буквы, я не знаю, наверное, что-то типа: «глубокая», «светлая», «холодная»; а возможно, тоже «вода». Прочитал в одной книжке, что в названии «Чусовая» четыре раза повторяется «вода»: Чу-со-ва-я. Значит, Чуя – это два раза слово «вода». Это новые племена, сменявшие прежде здесь живших, воспринимали их слово «вода» как название реки и добавляли слово «вода» уже на своём языке. Русские к этим названиям тоже добавили свою воду – «река». Почему же Яя – две одинаковых воды? Думаю, что названия записывал кто-то из русских. Когда спросил местного, как называется речка, тот ответил просто: «Я», то есть вода. Русский переспросил удивлённо: «Я?» «Я, я», – подтвердил местный. «Ах, Яя», – так и записал.
– Может, расскажете, что произошло дальше?
И мой попутчик продолжил свой рассказ.
Рассказ попутчика 2
Я ехал уже вторые сутки. Позади остались вокзалы Кургана, Петропавловска, Омска, Новосибирска. У меня уже развилось чутьё, и ночью, когда меня будили проводницы, я выходил в тамбур и с одного взгляда находил отличия от здания на фотографии, быстро возвращался на своё место и снова моментально засыпал. Когда проехали Новосибирск, они предупредили меня, что разбудят на станции Болотной, но и дальше будут вокзалы, которые стоит проверить. Это станции Юрга, Тайга, Анжерская, Яя, Ижморка. А дальше до Ачинска похожих вокзалов нет, и можно будет спать всю ночь.
Дальше была полночь по московскому времени. Очередная станция. Я, полусонный, стоял позади проводницы и рассматривал, что проплывало за окном. Наш вагон восьмой, и чаще он останавливался прямо напротив вокзала. В этот раз тоже. Поезд шёл по третьему пути, пассажиры должны были выходить на платформу и, кому надо попасть на вокзал, должны были ждать отправления поезда, потому что вокзал был с другой стороны. Но проводник открыла для меня и вторую дверь. Я глянул на двери вокзала, и вдруг как током – это был тот самый! Я понял, что за тень была на стене – дорожку от двери вокзала до путей освещали два фонаря на металлических столбах.
Об этом надо было сообщить моему начальнику. Сейчас бы я позвонил по мобильнику, но тогда у меня его не было. Они были ещё слишком дорогими для таких, как я. Поэтому только на другой день, когда поезд прибыл в Красноярск, я сразу зашёл на переговорный пункт и позвонил в Самару. Начальник угрозыска, сказал: «Давай, выдавай замуж дочь, а потом туда. В местное УВД через два дня факсом вышлем уведомление о тебе, фотографию троицы и фоторобот блондинки. Когда закончишь все дела, возьми бланк и отметь командировку. Так что поездка на свадьбу у тебя будет за государственный счёт».
Свадьба прошла замечательно. Было весело, все гости вели себя хорошо. Родители жениха оказались приличными людьми. Отец – начальник цеха большого завода, сватья – экономист. Уже купили молодожёнам квартиру. В общем, все остались довольны.
На второй день вечером я выехал из Красноярск и уже утром стоял перед вашим вокзалом. Потрогал чугунные столбы фонарей, даже увидел трещины у их основания. Видимо, они были отлиты из некачественного чугуна. Такие мне уже раньше попадались на старых вокзалах. Узнал и входную дверь, и оконную раму. Потом подошёл к тому месту, где должны были стоять трое парней. У меня было такое чувство, что я прямо сейчас увижу их следы. Но на асфальте было чисто. Интересно, кто же их фотографировал? Эксперт говорил, что снимали с высоты среднего роста. Кто этот четвёртый? А может, просто кого-то попросили?
Вокзал оказался не с левой стороны по ходу поезда, а с правой. Эксперт ошибся. Потом, когда мы днём проезжали мимо вокзала, я понял, почему он неправильно определил положение вокзала: здесь направление путей было не с запада на восток, а под углом с юго-запада на северо-восток. К тому же летом в этих широтах солнце стоит высоко и заходит чуть ли не на севере, поэтому и северная сторона вокзала после полудня оказывается освещённой.
Снаружи вокзал выглядел ухоженным, было видно, что его недавно освежили: побелённые вертикальные выступы контрастно выделялись на зелёном фоне стен. Но внутри вокзал был старым. Часть пола была выложена красно-коричневой и грязно-жёлтой шестигранной плиткой, которую я видел в детстве в своём городе. Для полноты впечатления не хватало только бачка с водой и привязанной к нему кружки, как когда-то это было на всех вокзалах.
У продавца вокзального киоска спросил, как добраться до городского управления внутренних дел, и уже вскоре был перед входом в трёхэтажное здание светло-коричневого цвета. Справа от входа – стенд «Их разыскивает полиция». Качество снимков такое, что половина из разыскиваемых кажутся одинаковыми. Один из портретов показался знакомым, но фамилия мне ничего не говорила. Наверное, похож на кого-то, с кем раньше имел дело, – решил я. Дежурный, глянув на моё удостоверение и выслушав о цели приезда, отправил к начальнику угрозыска.
В кабинете меня встретил, как он представился, майор Захаров Михаил Васильевич. Я тогда тоже был в звании майора.
Рассказал, что привело меня в ваш город. Захаров по телефону вызвал старшего лейтенанта Кузьмина. Через полминуты он вошёл: выше среднего роста, стройный, тёмные, немного волнистые волосы, брови вразлёт. Он был в штатской одежде: в белой рубашке и чёрных брюках. Наверное, в форме выглядел бы ещё симпатичнее. Я даже засмотрелся на него. «Занесло же тебя в милицию, тебе бы артистом работать», – подумал я тогда.
Я всегда завидовал высоким парням – они же могли за любой девушкой приударить, а таким, как я, высокие красавицы были недоступны. Я вообще во всём был средним – что в учёбе, что в спорте, что в росте. В школе проучился до восьмого класса. В девятый не пошёл, стыдно было говорить, что учусь в школе, когда спрашивали, кем я работаю. Поехал с друзьями в Самару, поступил в машиностроительный техникум. Учили нас хорошо, теорию дополняла практика. Не поверите: я до сих пор помню, как найти концы трёхфазного двигателя переменного тока и как соединить их в «звезду» и «треугольник», и это несмотря на то, что я учился не на электрика, а на механика. А помню я, потому что несколько раз всё проделал своими руками. Но без теории тоже нельзя – не будешь понимать, что делаешь, и быстро забудешь.
На второй день после защиты дипломной работы, получил повестку в армию. Там служил в танковой части. Сначала экипажем танка бегали по полю в противогазах – изображали танк. Потом уже в самом танке. После армии устроился в Тольятти на автозавод, работал сборщиком, потом мастером. На заводе тогда было сто тысяч работников. Цеха обедали в разное время. В столовой одновременно садилось за столы десять тысяч человек. Зал – целый стадион!
Случайно на вокзале в Самаре встретил одноклассника – он работал милиционером – предложил тоже пойти в милицию. К тому времени мне уже наскучило однообразие заводской жизни, захотелось перемен, и я согласился. Так до пенсии и проработал в угрозыске…
– Александр Леонидович, знакомься: майор Анатолий Егорович Рябов, наш коллега из Самары. Надо ему помочь, – представил меня майор Кузьмину.
– Да у меня же убийство… Только позавчера…
– Надо, Александр Леонидович, надо, – не дал ему договорить майор. – Вот вам помощник, – обратился он уже ко мне, – вводите его в курс дела и вперёд. Старший лейтенант сейчас тоже расследует убийство, но будет заниматься параллельно. Надо помогать друг другу – общее дело делаем, тем более, что, судя по всему, нас оно тоже касается.
Мы взяли у секретаря присланные по факсу из Самары документы, и в кабинете Кузьмина я рассказал ему всё, что мне было известно об убийстве Черкасова, показал фоторобот блондинки и снимок троицы.
Кузьмин повертел фотографию:
– Десять лет вроде немного, особенно, если ты этих людей видишь постоянно. А если десять лет не видел, то можешь и не узнать. С чего начнём?
– Попытаемся установить личности. Раз снимок сделан на вашем вокзале, то, возможно, кто-то их узнает. Надо дать фотографию в газету, показать по городскому телевидению. И ещё: я тут перед входом посмотрел ваш стенд «Их разыскивает полиция». Мне показалось, что одного я где-то видел, но не помню, где и когда. Там написано, что его фамилия Бородин.
– Вот сейчас пойдёмте к разыскникам, там и спросим. Бородин у нас пропал две недели назад; до сих пор ничего не известно.
Мы вошли в небольшой кабинет, где за столом боком к окну в немного лоснящемся кителе сидел пожилой полноватый майор. Кузьмин представил меня и назвал майора: Павел Егорович Картавых. Потом объяснил, что нам надо.
– И ещё, – добавил я, – мне показалось, что разыскиваемого Бородина я где-то видел. Может, у себя, в Самаре, висит такой же портрет или просто похож на кого-то знакомого, но я не могу вспомнить.
– Бородин Василий Борисович, владелец складских помещений, женат. Пропал пятнадцать дней назад.
– А при каких обстоятельствах? – спросил я.
– Да нет никаких обстоятельств. До обеда был на работе. После его уже никто не видел. Никакой записки не оставил. В кабинете все вещи и бумаги на месте. Двери закрыты ключом. Жена заявила о пропаже утром на второй день, а ещё через день мы открыли дело. Судя по всему, его либо увезли куда-то с пока неизвестной целью, либо убили. Может, что-то не поделили с партнёрами по бизнесу. Проверяли версию убийства из-за денег. Таких преступлений стало намного меньше, но тоже случаются. Пока труп не обнаружен, что-то определённое сказать трудно.
– А как вы его ищете?
– Обычные меры: портрет в газете и на телевидении. Листовку вы видели. Пока результатов нет. Проверили партнёров по бизнесу, потрясли уголовников, опросили знакомых. Глухо.
Одна из кладовщиц вспомнила, что в тот день видела, как в кабинет Бородина заходила блондинка. Высокая, стройная, в джинсовых брюках и синей спортивной куртке. Лица её не видела и не пыталась – подумала: очередной покупатель. Никаких особых примет не заметила. Фоторобота, естественно, нет. Появилась ещё одна версия – Бородин скрылся от семьи и живёт где-нибудь с этой блондинкой.
– В Самаре тоже была блондинка, и точно так же одета, – заметил я. – Не думаю, что это случайно.
– Согласен, – поддержал майор. – Надо показать кладовщице фоторобот вашей блондинки, может, хотя бы подтвердит, что фигура такая же.
Майор стал внимательно рассматривать бумаги, которые мы принесли.
– Так вот же наш Бородин! – тыкал он пальцем в фотографию. – Вот он слева, кучерявый брюнет в тёмно-серой куртке. Он тут моложе, поэтому не очень похож.
– Мы с нашим гостем сейчас же идём к Бородиным, надо показать эту фотографию родителям, может, они узнают и всех остальных. Раз они на одном снимке, то, может, дружили, и, возможно, бывали у Бородиных, – сказал Кузьмин. – Что узнаем, доложим вам.
– Не торопитесь. Родственников у него, можно считать, уже нет. Отец бросил мать, как только узнал про беременность, мать через семь лет нашла себе мужа и уехала с ним в другой город. Он воспитывался у бабушки. Бабушка восемь лет назад умерла. У него только жена и пятилетняя дочь. Лучше поезжайте к родителям его жены, поговорите с ними. Кстати, они Бородины, а его фамилия до брака была Пузанов. Обычно мы не обращаем внимание на значение фамилии, и воспринимаем её как набор звуков, но «Бородин» всё-таки звучит намного лучше. Поэтому его жена отказалась менять свою фамилию, да и он решил избавиться от своей такой некрасивой. От Бородиных съездите в его контору и поговорите с кладовщицей, покажите ей этот фоторобот: одна и та же у нас блондинка или разные. Хотя розыск Бородина – моё дело, но чувствую, что тут что-то посложнее вырисовывается, вот вам и карты в руки…
Кузьмин связался по телефону с женой Бородина и договорился встретиться в доме её родителей.
Но прежде чем отправиться к Бородиным, мы сначала заехали в контору, где он работал. Там нам разыскали кладовщицу, которая видела блондинку в день пропажи Бородина. Она подтвердила, что фоторобот самарской блондинки на неё похож. Стало окончательно ясно, что появление блондинки в обоих случаях – не случайное совпадение. Осталось выяснить, кто она…
Бородины жили в частном секторе. Обычный дом, крыша покрыта шифером, три окна впереди смотрят на запад, на дорогу. Ещё два – на солнечной стороне, где двор. Вместительная веранда, большой огород с теплицей, забор из штакетника. От дома до калитки и ворот из штакетника – настил из досок. Слева от настила – кусты малины, справа белеют большие кочаны капусты. Слева от калитки, на заборе – почтовый ящик. Перед домом высокие деревья: берёза, ель, рябина и черёмуха. У нас такие деревья во дворах уже давно не сажают, в основном – яблони, сливы, груши; многие научились выращивать виноград.
Как только мы прошли калитку и подошли к высокому крыльцу, дверь веранды открылась, и появилась молодая женщина: немного полноватая, светловолосая, с короткой стрижкой. Мы догадались, что это жена Бородина. За ней вышли: седой мужчина лет шестидесяти в клетчатой рубашке и пожилая женщина в платке и фартуке – отец и мать. Мы представились. Они с грустным видом выжидающе смотрели на нас. Сначала Кузьмин развёл руками и, помотав головой, сообщил им, что пока никаких сведений об их зяте нет, а мы пришли кое-что уточнить.
Нас пригласили в дом. Мебель, за редким исключением, была старомодной: слева от входа большой шифоньер, между окнами книжный шкаф, справа стенка с полками, наполненными, с одной стороны горки – посудой, с другой – книгами. Впереди комод, покрытый белой скатертью с вышитыми цветами. На комоде телевизор. В середине комнаты расположился широкий стол с придвинутыми к нему стульями.
Кузьмин разложил наши бумаги.
– Посмотрите, пожалуйста, никого не узнаёте? – спросил он.
Старики узнали на снимке своего зятя, жена – тоже.
– А рядом?
– А кто рядом с ним, я не знаю, – сказала она, – наверное, друзья.
Старики тоже подтвердили, что никого из них никогда не видели.
– А что с ними? Тоже пропали? – спросил отец.
– Да, ищем, он вот из Самары приехал, – ответил Кузьмин, показав на меня. – А вы не слышали такую фамилию: Черкасов?
Все отрицательно покачали головой.
– Посмотрите ещё раз, вдруг вспомните кого из них. Вот ваш зять, а вот Черкасов, звать Владимир. Может, слышали про него или его родителей? Может, приходили к вам в гости?
Но на все эти вопросы Бородины ничего не могли сказать.
– А где ваш сын учился, когда была сделана эта фотография? – спросил Кузьмин.
И тут мы вздохнули с облегчением – появился свет в конце тоннеля – оказалось, что он учился в Томске, в автодорожном техникуме. Теперь мы сможем узнать о них в самом техникуме – десять лет не так много, преподаватели должны помнить своих учеников.
И мы с Кузьминым на другой день отправились в Томск.
3. Рассказ автора (в поезде в наши дни)
Я предложил Анатолию прервать рассказ и полюбоваться красками уходящего дня. За окном открылась огромная долина, заполненная беспорядочной массой домов разного калибра, как будто где-то прорвало платину, и их смыло потоком и несёт к неведомому океану. Крупные дома плывут в центре, а маленькие домишки, как щепки, то цепляются за крутые берега, то их выбрасывает волнами высоко на склоны гор. Это Златоуст. Я знаю: здесь поезд делает такую петлю вокруг города, что вечернее солнце уже будет светить с другой стороны, и мы окажемся на противоположном склоне там, где сейчас в расселину уползает грузовой поезд.
Вдоль поезда по-прежнему серебрится речка, а на другом берегу тянутся какие-то цеха, в которых видны всполохи электросварки, раздаются свистки тепловозов. Когда я проезжаю здесь, всегда вспоминаю песню Евгения Родыгина «Уральская рябинушка». Мне кажется: она про этот город. Наверное, на Урале много мест, где можно увидеть то же самое, но когда я в окно вагона вижу вечерний Златоуст, то так и слышу эти слова: «Вечер тихой песнею над рекой плывёт. Дальними зарницами светится завод. Где-то поезд катится точками огня…»
Эту песню я слышал ещё в далёком детстве. Она была на пластинке, которую я проигрывал на патефоне, меняя затупившиеся стальные иголки.
Позже патефон сменила радиола. Тогда же появились долгоиграющие пластинки, на которых было уже по несколько песен на каждой стороне.
До сих пор не знаю, к чему меня больше тянуло, к песням или к этим загадочным устройствам. Я рос, и менялась техника. Магнитофон уже пришёлся на мою юность. Сейчас цифровая техника, и такие вещи, как плёночный фотоаппарат, транзисторный приёмник, ленточный видеомагнитофон, стали музейными экспонатами. А ведь было время, когда ходили в гости, чтобы послушать радиоприёмник, потом так же собирались у тех, у кого был телевизор – посмотреть кино. И когда-то кассетный видеомагнитофон стоил столько же, сколько и однокомнатная квартира.
Вот и вокзал – огромный, из стекла и бетона, просвечиваемый насквозь, он выглядит непривычно пустынным. Пассажиров немного. А слова песни: «И смолкнет шум вокзала…» теперь выглядят анахронизмом, как и про звонки отправления. Нет уже вокзальных колоколов, и поезд отправляет не кондуктор (как в песне, в которой «кондуктор не спешит, кондуктор понимает…»), и даже не начальник станции (как было тогда), а ходят они строго по расписанию.
С каждым годом встречающих и провожающих на вокзалах становится всё меньше и меньше. Я даже пытался это себе объяснить. Набралось много причин. Например, сокращается население. Семьи стали меньше: один-два ребёнка и всё. Значит, и причин разъезжаться всё меньше. А если кто куда и едет, то и родственников, желающих провожать и встречать, тоже стало меньше.
Ещё одна причина: государство прекратило посылать студентов работать по направлению, как это было раньше. В советское время каждый выпускник очного обучения должен был отработать там, куда его направят: после вуза – три года, после техникума – два. Предприятия и организации направляли заявки на нужных специалистов в учебные заведения. Выпускникам предлагали выбрать из списка. Сначала направление выбирали отличники, потом все остальные. На новом месте, они зачастую обзаводились семьями и оставались там навсегда. Так произошло и со мной. После окончания Воронежского политехнического вуза я получил направление технологом на химический комбинат, выпускающий лекарства. Думал, через три года вернусь домой. Но познакомился с будущей супругой, женился. Конечно, переживал, что родители далеко, но жизнь тогда казалась вечной, а со временем и возвратиться на свою малую родину стало проблемой: здесь была работа, уважение коллег. А жене и детям трудно было бы поменять место жительства, да и я уже привык.



