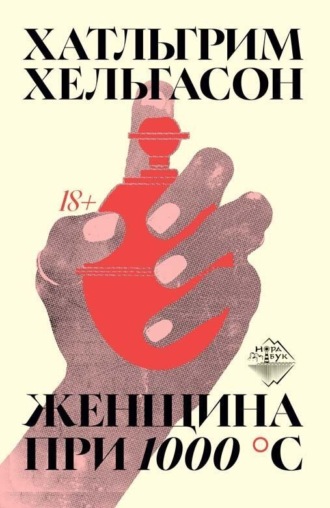
Полная версия
Женщина при 1000 °С
У Аусы был абонемент в парк развлечений Тиволи. Я попросила папу купить мне такой же, и потом подруга водила меня по парку, как Алису по Стране чудес. Мы фантазировали, будто мы сироты в безумном мире военных действий, и что нам раз за разом удается выйти живыми из «пыточных застенков союзников», роль каковых исполняли американские электромобили, британский поезд призраков и парижское колесо обозрения. Но самым невероятным было то, что мы остались живыми после скоропостижного катания на «русских горках». После этого мы просили убежища в комнате смеха. Но война и тут настигла нас, исказила наши лица, растянула щеки и лоб и сузила глаза. Маленькие женщины с огромными военными именами Осхильд и Хербьёрг с криком выбежали из парка войны и разом замолчали, налетев на четырех немецких солдат на тротуаре за
воротами.
Я: «Почему ты их испугалась?»
Она: «Я не испугалась».
Я: «Неправда! Ты сразу замолчала. Разве ты не за немцев?»
Она: «Папа говорит: нельзя смеяться над человеком с винтовкой. А ты почему не за немцев, как твой папа?»
Я: «Мама говорит, что вся эта война началась из-за одного человека. И что ему всего-навсего не хватало любви».
Она: «Но мы все его любим».
Я: «А ты уверена, что он вас любит?»
Она: «Конечно».
Я: «Тогда это какая-то странная любовь. Он только и знает, что орет».
Она: «Да, когда сильно любишь, то и будешь орать».
Я: «А по-моему, это не любовь, а что-то другое».
Она: «Папа говорит, Гитлер любит Германию, как собственную руку. Он готов отдать за нее жизнь».
Я: «А зачем ему отдавать жизнь за собственную руку?»
Она: «Что?»
Я: «Если отдать жизнь за руку, то, когда ты умрешь, останется только эта рука. А на что она нужна одна, сама по себе?»
Она: «Ах, Герра, я просто хотела сказать, что он готов умереть за родину. Вот ты готова умереть за Исландию?»
Я: «Нет».
Она: «Нет? Вот если бы твоя родина была в опасности, например, если бы ее собрался проглотить дракон?»
Я: «Если я умру – какая родине будет от меня польза? Страны вообще не хотят, чтобы за них умирали. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое».
Она: «А если их кто-нибудь завоюет?»
Я: «Мама говорит, страны невозможно завоевать».
Она: «Пойми! Немцы заняли Данию! За десять минут! А Норвегию – за полмесяца. Вас заняли англичане, а… а ведь Исландия много столетий была датская».
Я: «Ну и что? Что это меняет для нас? Какая разница, датчанка я, англичанка или исландка?»
Она посмотрела мне в глаза, открыла рот, но оттуда не послышалось ни звука. Ответ был очевиден.
39
Смерть солдата
1940Всю дорогу домой мы молчали. Я смотрела по сторонам: на людей, улицы, дома. Можно было кожей почувствовать, что Дания мертва. Мы шли вниз по бульвару Андерсена, мимо Глиптотеки, и даже фонарным столбам вокруг было явно грустно. Автомобили ездили по улицам в похоронной тишине. Во многих домах окна были затемнены, а над общественными зданиями реяла черная как смоль свастика, словно чудовищный искаженный орел. Я вдруг ощутила всю жуть оккупации, и меня пробрала дрожь, едва я, десятилетний ребенок, постаревшим разумом поняла, что мама была права: завоевать страну нельзя. Это все равно что притеснять жильцов в их собственной квартире.
На лестничной площадке я попрощалась с Аусой и взбежала вверх по лестнице в нашу квартиру, которая казалась мне большой, как целый регион: последний свободный клочок земли в Дании, исландский островок в океане войны, малонаселенный и изолированный.
Да, мы жили даже в большей изоляции, чем наши земляки в Брейдафьорде, потому что телефонной связи с Рейкьявиком уже не было. Последний телефонный разговор был, когда дедушка звонил бабушке. «Они хотят назначить меня главой государства. Это новая должность, временная, только на время оккупации». Потом бабушка передала трубку папе, и будущий глава Исландии побеседовал с будущим гитлеровским бойцом. Я помню, как папа стоял в длинном коридоре, одной ногой на турецкой ковровой дорожке, а лицо у него было, как у серьезного двенадцатилетнего мальчика.
Дедушка: «Так… Так говорят, любезный сын, что у отца, провожающего сына на поле боя… что в нем борются два чувства. – Голос у дедушки слегка дрогнул. – С одной стороны – гордость… с другой – тревога».
Папа: «Да?»
Дедушка: «И меня печалит, любезный сын… меня печалит, что в моей груди теснятся совсем другие чувства».
Папа: «Да?»
Я думаю, от гибели на фронте папу спасло только то, что он погиб до того, как отправился туда.
40
Пюре из репы
1940Человек, питающий слабость к униформе, разумеется, всегда ходил в своем сером кителе с обшлагами и воротником, на котором красовалось: Sturm-Schütze[86]. Бабушка постоянно просила его, даже приказывала ему избавить себя от этого отвратительного зрелища в своем доме, но папа отвечал, что ему нельзя ходить без знаков различия.
– Men vi har gæster her i aften, og jeg vil gerne…[87]
– Нет, мама, к сожалению, не могу. В Третьем рейхе на этот счет очень строгие правила. К тому же мне трудно переодеваться из-за гипса на руке.
Вечером мы сели за стол всемером: семь гномиков с белоснежного острова, не игравших никакой роли в мировой истории, но, разумеется, представлявших свои собственные миры. В тот раз с нами ужинали папины братья и сестры: Свейн по прозвищу Пюти и Анна-Катерина Огот по прозвищу Килла. Ей было около тридцати, и она была настоящая красавица со слегка мужскими квадратными чертами лица, а он – двадцатичетырехлетний студент-дантист, жизнелюб с грудью колесом и «живым румянцем» на щеках. Килла была замужем за фарерцем из известной семьи, и они жили на Зеландии в деревне Дальмосе. Кроме них пришел Йоун Краббе, который после отъезда дедушки возглавлял посольство, полуисландец-полудатчанин, которого бабушка иногда приглашала на обед. Он запомнился мне именно тем, что был совершенно незапоминающимся, как это нередко бывает среди работников посольств. Красивый, но зажатый мужчина лет семидесяти, нос прямой, волосы белые, в глазах огонь, рот на замке, а уши немного оттопырены. Как раз они были его самым мощным оружием в дипломатических делах, ведь всем было ясно: вот человек, который слушает. Йоун всегда прежде, чем заговорить, немного наклонял голову, как бы в подтверждение того, что его слова не выражают окончательного решения его самого или правительства Исландии, а открыты к обсуждению.
Бабушка села во главе стола и бросала взгляды на эсэсовский значок, а папа шмыгнул на стул подальше от нее. Я заняла место напротив него и чувствовала себя, как будто сижу за столом переговоров. Потому что мое положение было непростым.
Моя бабушка – датская дворянка, замужем за исландцем, презирающая немцев. Мой папа – немецкий солдат, женатый на исландке и презирающий датчан. Йоун Краббе – чиновник, наполовину исландец, женатый на датчанке и вынужденный ежедневно кланяться немцам. Пюти – наполовину датчанин, наполовину исландец-оптимист, мечтающий о независимости Исландии. Килла – полуисландка-полудатчанка, замужем за фарерцем, не строящая иллюзий по поводу независимости Исландии. Мама – уроженка Брейдафьорда, смотрящая на это все со стороны моря. Я – подрастающий ребенок.
Вошла добрая румяная Хелле, решила, что все молчат, потому что у нее так плохо удались фальшивый заяц и пюре из репы, и начала смущенно и торопливо:
– Я вам про Эббе Ро не рассказывала? (Заливистый смех.) Нет? Не рассказывала? У нас был один фермер по имени Эббе Ро, репу выращивал. Однажды он в огороде выдернул огромную репину. Такую громадную, что все советовали ему отвезти ее в Хобро на сельскохозяйственную выставку. Там она заняла первое место, и Эббе стал отмечать победу в кабаке. И что вы думаете – там ее у него украли! (Смех.) Эббе искал-искал и наконец нашел ее в казино на окраине города. Кто-то ее поставил на кон и проиграл, а когда Эббе (смех) … когда Эббе проиграл свой дом, и скотину, и жену, и детей, и башмаки, и подтяжки, то ему наконец удалось отыграть свою репу, и он вынес ее оттуда поутру. А тогда он проголодался и решил попробовать кусочек этой репы. А она оказалась невкусная. (Хохот.) Такая невкусная, что он просто отдал ее семье нищих, которая ему повстречалась по дороге. (Смех.) И пошел он на восход в одних чулках и со спущенными штанами… Вот что у нас в Ютландии рассказывали.
За столом воцарилось неловкое молчание; посольское семейство, с застывшими на лицах улыбками, выкатило глаза на кухарку. Им приходилось учиться у себя самих на заре исландской международной дипломатии не перебивать других, даже если они говорят слишком долго, и не обсуждать присутствующих, даже если речь идет о прислуге. Мы так гордились тем, что мы – единственные исландцы, знакомые с международными правилами вежливости.
– Ja, men det var en dejlig historie[88], – сказала бабушка, зажмурив глаза. Ее седые волосы были расчесаны на прямой пробор и осеняли ее голову, словно два больших куцых крыла. Затем она улыбнулась, сжав губы, и кивнула кухарке, которая поняла ее выражение лица и легко выбежала из столовой, на прощание бросив фразу, повисшую после нее в воздухе, как шлейф дыма:
– Надеюсь, вы не расхотели есть мое пюре из репы, ха-ха!
– Типичная датская басня. Тут никому нельзя ничем выделяться, а тем, кому улыбнулось счастье, приходится хуже всех, – сказал папа, едва за ней закрылась дверь.
– Если удача слишком широко тебе улыбается, это нехорошо, – ответила его сестра Килла.
– Ты слишком долго здесь прожила, – ответил папа.
– Ты думаешь, тебе улыбнулась удача? – спросил Пюти с ухмылкой на толстых щеках.
– Что ты имеешь в виду? – переспросил папа.
– Сам понимаешь. Ты думаешь, тебе достанется кусочек этой огромной репы, которая все растет и растет и скоро вырастет величиной со всю Европу.
– Как ты смеешь сравнивать Тысячелетний рейх с репой! – вспыхнул папа.
– Не просто с репой, а с огромной репой, – усмехнулся его брат.
Килла, сидевшая между Йоуном Краббе и папой, наклонилась вперед, рассматривая пустое место на белой скатерти между двумя подсвечниками, и сказала так, что волосы над ее лицом с волевым подбородком слегка качнулись:
– А ты все продумал, Ханси? Что ты будешь делать, если Гитлер проиграет войну?
Выражение лица у папы стало как у петуха, залетевшего в пустой курятник. Раньше он такого никогда не слышал.
– Проиграет? О чем это ты?
Сестра скосила на него глаза, не поворачивая головы, и произнесла:
– Это вполне вероятно. Никто не может выиграть войну одновременно в пяти странах.
– Тогда он просто поставит на кон башмаки и подтяжки и снова получит свою репу! – подал голос Пюти, пытаясь разрядить обстановку.
Но ему это не удалось. Сейчас за столом впервые все замерло. Краббе переводил взгляд то на одного, то на другого брата, словно распорядитель на молодежных танцах, и попутно собирал соус с помощью ножа на вилку. Мама уже доела свою порцию и разглаживала салфетку, лежащую на ее широких коленях. Пюти, сидевший между мной и мамой, сделал большой глоток красного вина, а потом обратился к бабушке:
– А разве эту историю сочинил не… как его… Андерсен?
– Nej, det var bare sådan en typisk gammel jysk historie[89], – ответила супруга посла, качая головой и тыкая мясо вилкой.
– Которая сейчас уже tysk[90] geworden[91], – озорным тоном добавил Пюти и как бы в подтверждение этого щелкнул каблуками под столом и вскинул правую руку: «Зиг хайль!» Особенно смешным этот жест сделало то, что Пюти так поднял руку, будто она была загипсована, как у папы.
У меня вырвался смешок, а маме удалось подавить смех. Папа послал мне быстрый взгляд, полный одновременно изумления и укоризны. Он покраснел до ушей и сидел на том конце стола, словно свекла в сером кителе. Бабушка ошеломленно смотрела на своего сына Пюти. Его дерзкая шутка оказалась полной неожиданностью для всех. Папа не знал, что и ответить. Сперва он отодвинул свой стул, словно собирался покинуть собрание, но передумал и вместо этого начал агитировать за Гитлера и нацизм. Но долго говорить ему не дали, потому что бабушка остановила его: сказала, что здесь не немецкая сфера влияния, здесь свобода слова, а если, мол, ему хочется петь коричневым курткам дифирамбы, то милости просим отойти к окну. Затем она посмотрела в глаза своему сыну тяжелым взглядом и заявила, что, конечно, не привыкла указывать своим детям, каких политических взглядов им придерживаться, но пусть он хорошенько подумает над словами своего отца, который после поездки в Берлин сказал, что при нацизме все общество шиворот-навыворот: университетом, парламентом и церковью верховодит пивнушка.
– Папины представления о Германии в основном идут из… – папа резко замолчал и уставился на бабушку, а потом вновь начал. – Но именно эти учреждения и дали слабину. Время потребовало новых, нестандартных решений. Разве папа не станет правителем страны под эгидой англичан? Чиновник сменит короля! Это ведь тоже значит, что все шиворот-навыворот!!
Пюти с изумлением взглянул на свою мать.
– Мама, это правда? Папа станет правителем Исландии?
Фру Георгия ничего не ответила.
– Он этого никогда не сделает. Папа никогда не предаст короля, – сказала Килла.
– Предать короля? А разве Исландия вообще может ему принадлежать, коль скоро она оккупирована англичанами, а сам он – нами? – спросил папа властным тоном, и краска сошла с его лица.
– Af os? Pfhi! – фыркнула бабушка и грянула: – Du er ikke tysk, Hans Henrik! Du er min søn![92]
Бабушка редко сердилась, и за столом воцарилось молчание нового рода, которое продолжалось до тех пор, пока она, покачиваясь, не потянулась за своим бокалом вина. Пюти попытался возобновить беседу:
– Краббе, какое сейчас у Исландии отношение к Дании?
Краббе кивнул головой и начал рассказ, тщательно стараясь во время своей речи посмотреть в глаза каждому из нас:
– Я думаю, что датчане в полной мере осознают, что исландцам в той или иной степени придется в сложившейся ситуации решать свои дела самостоятельно, при полном взаимодействии с оккупировавшей их страной, но в то же время мы, исландцы, должны уважать отношение датчан к без сомнения достойной стране, оккупировавшей их.
Обегая стол, глаза Краббе задержались именно на глазах папы, когда он произнес заключительные слова: «К без сомнения достойной стране, оккупировавшей их». Затем он вновь кивнул, словно прося прощения за свою опрометчивость. Присутствующие сидели, не моргая. Судя по всему, никто не понял этой вежливой тирады, которая умерила пыл собравшихся. А если кто-нибудь и понял, что хотел сказать полпред, и захотел бы возразить ему, он застраховал себя от этого: стащил со своих колен полотняную салфетку и осторожно промокнул ею губы, словно собственное высказывание показалось ему грязным. Вероятно, такова роль дипломатов: эпатировать других вежливым образом.
За столом опять воцарилось молчание и длилось до тех пор, пока ютландская кухарка Хелле не пришла забрать тарелки. Бабушка очнулась и повернулась к маме, чтобы узнать ее мнение о рассказе про Эббе Ро:
– Men hvad tænker du om Helles lille historie, Massebill?[93]
– Ну, у нас на Свепнэйар иногда в сеть попадались такие гигантские тунцы. Но от них были только одни неприятности: они портили сети, а на парней из-за них находили приступы хвастливости: им непременно надо было мчаться на Флатэй показывать добычу. И еще такие рыбы бывали невкусные. По-моему, это скорее пища для журналистов, а не для обычных людей. Как говорит мама, чудесный улов – не во благо.
41
В датской младшей школе
1940Мы оказались заперты в Дании до самой осени и даже дольше. Пароходы в Исландию ходили редко, к тому же плавание было весьма опасным. Немецкие и английские подводные лодки постоянно охотились на суда в Атлантике, и даже киты в океане ощущали на себе дыхание войны.
Бабушка Георгия отправилась на родину осенью – в знаменитый Петсамский рейс. Тогда двумстам исландцам, проживавшим в странах Скандинавии, дали возможность уплыть домой на пароходе «Эсья», но сперва они должны были добраться до Петсамо, портового городка на севере Финляндии. Бабушка наотрез отказалась брать с собой нас с мамой. «Нельзя класть все золотые яйца в одну лодку». Пюти тотчас принял насмешливое выражение лица и сказал: «Значит, мама, я не золотое яйцо?» – он должен был сопровождать ее в поездке. «Не золотое, а пустое», – отвечала я.
Мы с мамой должны были поехать следующим рейсом. Но он не состоялся. В середине лета папа отправился на ратные труды, и мы с мамой остались в резиденции посла Исландии одни. В свете недавних событий должность посла упразднили, но из-за оккупации продать квартиру не удавалось много месяцев. Сначала с нами были труженица кухни Хелле и шофер Райнер. Как и большинство мужчин, доживающих век в качестве шоферов при посольствах, он был из числа бесприютных. Происходил он из дворянского немецко-французского рода, но все бумаги, подтверждающие дворянство, потерял в «Первой мировой возне». Но гены были на своем месте, и Райнер всегда стоял навытяжку, если ему случалось хотя бы ненадолго встать в углу или на тротуаре. Он щеголял тремя черными косматыми бровями: две на лбу, третья – на верхней губе.
В начале сентября я пошла в местную школу, Den Classenske Legatskole[94]. Первый день прошел неудачно, потому что я вернулась домой с «разукрашенным» лицом. Дети окружили меня во дворе и орали мне: «Klipfisk! Klipfisk!» («Сушеная рыба! Сушеная рыба!») На следующий день начались уроки. Учитель был полноватый господин со звучным голосом.
– А вот и наша новенькая – исландка фрекен Бьёрнссон. Вы не могли бы что-нибудь рассказать нам об Исландии? Правда, что там не растут деревья?
– Да нет, растут. Только они очень маленькие. Говорят, если заблудишься в исландском лесу, надо просто встать во весь рост.
Класс засмеялся суровым смехом, показывая, что смеется не над шуткой, а надо мной.
– А еще говорят, чтобы посмотреть на датские горы, надо наклониться.
За это дополнение меня побили на школьном дворе, и я пришла домой с рваным ухом. На следующий день я наотрез отказалась идти в школу и бастовала целую неделю, пока мама не нашла мне маленькую уютную школу возле парка Росенборг, носящую привлекательное название «Школа на Серебряной улице».
Райнер каждое утро отвозил меня на Серебряную улицу – Сёльгэде. Она расположена недалеко от улицы Эстер Вольгаде, на которой раньше наш Йоун Сигурдссон[95] стоял на исландской вахте на корме дома со шпилем; я думаю, то, что его квартира по форме была похожа на корабль, помогло ему в плавании по бурному морю борьбы за независимость. Фасад дома был прочным, без щелей, и Йоуну дома можно было полностью не одеваться, так что он – единственный в мире борец за независимость, которому удалось освободить родину, будучи облаченным в ночной халат.
Зато травля исландских детей в датских школах была, по всей видимости, одобрена фолькетингом в рамках закона об образовании, потому что в этой низшей школе со мной обращались точно так же, как и в других.
«Hendes bedstemor er dansk, siger hun. Men hendes værstemor er islandsk!»[96]
Учитель был – дылда Йенс с жидкими светлыми волосами и толстыми очками; он так неудачно представил меня одноклассникам, что класс взорвался в хохоте, и дети стали шепотом передавать друг другу прозвище Хеброн. Отель «Хеброн» на улице Хельголансгaде был известен как публичный дом, и школьникам это казалось очень забавным.
«Хэллоу, Хеброн!»
Так начались уроки, но перемены были еще невыносимее: меня шпыняли по замощенному школьному двору, словно хворую козу. Я попробовала начать новую забастовку, но мама не верила, что ситуация не улучшается, и по утрам загоняла меня в машину. Однако в школе становилось все хуже и хуже. Порой мне приходилось просто удирать оттуда. К счастью, к моим услугам были целых три сада и множество пород деревьев, за которыми можно было прятаться: парк Росенборг, Ботанический сад и Østre Anlæg[97], который дядя Пюти называл не иначе, как Острый Омлет. Также было неплохо, что за углом располагался Statens Museum for Kunst[98], и порой мне удавалось сбегáть туда и уходить от погони в его извилистых коридорах. С тех пор я всегда быстро осматриваю музеи: такая я быстроглазая.
Конечно же, осенью 1940-го датский Государственный музей искусств контролировался нацистами. Так что там не было ни кубизма, ни фовизма, ни эксперссионизма, один фашизм. Статные мужчины с копьями и покорные женщины с младенцем
у груди.
Удивительно, насколько все фанатики любят гармонию в искусстве! Нацисты отправили в газовые камеры целый народ, но не могли видеть увечья на холсте. Но бывает и наоборот. Самый мирный народ может увлечься искажением и насилием в искусстве. Я не знаю человека более приличного, чем мой сын, Оулав Святой. Но в свое время он с головой ушел в панк и целыми семестрами просиживал у себя в комнате, слушая на полной громкости шедевры музыкального терроризма. А с ним были эдакие мышки, которых я прозвала «анарх-киски», тоже все из себя приличные, с булавочками в носу и в рваных колготках; они осторожно прокрадывались в коридор и втягивали голову в плечи, когда спрашивали, где здесь туалет. Наверно, они все потом стали депутатками Партии прогресса[99].
Жизнь всегда стремится к балансу.
Я снова зашла в Государственный музей после войны – конечно, тогда Матисс и К° снова вернулись на стены. Я помню самое лучшее полотно – «Тайную вечерю» Эмиля Нольде: мужественное и красочное изображение страданий Христа в окружении предателей. Я никогда не могла отделаться от мысли, что тут художник заглянул в будущее (картина датируется 1909 годом) и изобразил самого себя в дурном обществе – ведь Эмиль рано примкнул к нацистам. С другой стороны, он всегда был слишком большим художником, чтобы вместиться в рамки этой убогой партии. Его работы были слишком crazy[100], как выразился бы мой Боб. Слишком много цвета для тех глаз, которые через несколько лет разбомбили всю Европу.
42
В чужом дерьме
1940Дети – жесткие создания. У них нечеловеческий нюх и острая интуиция. Они быстро просекли, что новенькая девочка – не просто исландка, а даже еще хуже. Наверно, неспроста национальная датская сказка – это «Гадкий утенок».
Мама, отправляя меня в школу, предупредила, чтоб я никогда не показывала другим ребятам, что знаю немецкий. Но сама она совершила ошибку: дала мне с собой на завтрак исландский ржаной хлеб, печенный на слабом огне (который очень любила бабушка Георгия и научила Хелле делать его), а на него положила присланную из Исландии тюленину, которая у нас осталась еще с Любека. К тому же она нарезала хлеб поперек, а не вдоль, как датчане делали веками согласно королевскому указу 1112 года.
– Что ты ешь? Хлеб с тюленьим пометом? Да еще нарезала не так! В Гренландии, что ли, все косоглазые, кроме тебя?
– Nein[101].
Моя участь была решена. На протяжении всех лет оккупации Дании во всех взрослых была немецкая дисциплинированность: никто не осмеливался ругать немцев или говорящих по-немецки датчан. Так называемая борьба датчан за свободу по-настоящему началась не раньше дня победы, когда всем захотелось прослыть героями. Но дети – другое дело. То, о чем дома говорили шепотом, дети выносили во дворы. Да, во дворы, в переулки, аллеи, подземные переходы, школьные коридоры и проходы между деревьями. На самом деле Датское движение Сопротивления существовало только среди детей.
Датское слово helvede[102] недостаточно сильное, чтобы описать, чтó мне пришлось вытерпеть в школе на Серебряной улице. Девочки поджигали мне волосы свечкой, а мальчики подложили мне в сапоги вонючий горячий кал, а потом с улыбкой до ушей стояли поодаль и наблюдали, как я копаюсь в раздевалке. Я приняла выражение лица зависимой нации: гордость, гордость и еще раз гордость! – и как ни в чем не бывало погрузила ноги в датское дерьмо и вышла вон под крики всех этих ларсов да бьёрнов, ранившие как осколки стекол. Машина, по обыкновению, ждала меня возле школы, но я прокралась вон другим путем и дала крюк по улице Кронпринсессегэде. Мне не хотелось замарать персональную машину Исландии.
Когда идешь в чужом дерьме, возникает особое ощущение. С тех пор мне трудно ходить по копенгагенской брусчатке: я все время чувствую, как пальцы ног месят датские нечистоты. Со слезами на глазах и комком в горле величиной с лимонку я прошла вниз по Кёбмаэргаде, по Стройет, через Ратушную площадь и вниз по Кальвебод Брюгге. Мамы дома не было, меня встретила одна Хелле. У кухарки была большая грудь, в которую было приятно уткнуться; сама она была малорослая, с вечно голыми руками, напоминающими душистые горячие белые батоны (не испеченные в форме, а просто поднявшиеся на противне). Лицо у нее было тоже взошедшее на дрожжах, с неизменным пропеченным выражением; зубы сливочно-белые, губы вкусные, щеки поджаристые, а веснушки на них напоминали семечки на булке. Но в тот день мне было трудно броситься в датские объятья.









