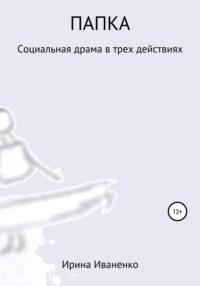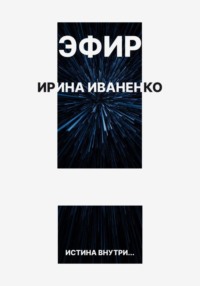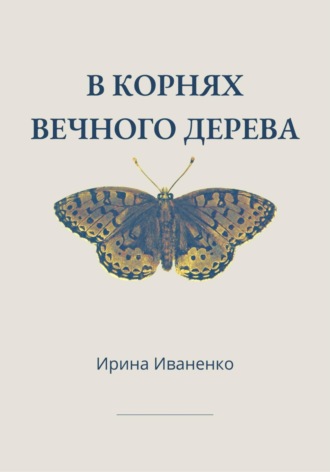
Полная версия
В корнях вечного дерева

Ирина Иваненко
В корнях вечного дерева
В КОРНЯХ ВЕЧНОГО ДЕРЕВА
Порой мы, в поисках воды и любви,
проходим сотни миль сквозь пустыни и скалы,
огибая и не замечая реки, океаны и даже океаны,
иссякая и опустошаясь, как молчаливые вены земли,
и так и не находим себя и ответов,
не осознавая, что искать надо только там…
Там, в корнях вечного дерева…
Глава 1
Божья коровка мучила бумажку. Она забиралась на нее, потом падала с поднимающегося кончика вниз, на подоконник, потом обегала ее то с одной, то с другой стороны, прижимаясь спинкой к острому краешку, снова заползала на бумажку и снова падала с нее вниз. Ася стояла рядом, за кафедрой, легонько барабанила пальцами по открытой папке и поглядывала на божью коровку и бумажку.
– Искусство эпохи Возрождения стало не просто новым витком в развитии человеческого восприятия действительности, оно явилось прорывом и переосмыслением места человека в физическом и метафизическом мире. Научные открытия, идеи гуманизма и возрождение античной философии сформировали целый пласт уникальных мыслителей и деятелей искусства…
Ася запнулась и снова посмотрела на божью коровку. Потом на аудиторию. Разноцветные макушки и подпертые ладонями лбы молча смотрели на нее, пока их хозяева вяло и в тишине шуршали и скрипели ручками, конспектируя лекцию.
– Одним из самых ярких представителей этой эпохи стал Микеланджело Буонарроти, – продолжила она, – его произведения наполнены религиозными мотивами и в то же время детальным воплощением в росписях красоты человеческого тела.
С задней парты поднялась тонкая рука.
– Да? – произнесла Ася.
– Микеланджело расписал место над алтарем в Сикстинской капелле. Как вы относитесь к изображению такого количества обнаженных мужских тел над церковным алтарем? Это нормально?
– Здесь нужно понимать, кто такой Микеланджело и основу его убеждений. Общепринятая трактовка такой росписи сводится к тому, что автор описал фрагменты Страшного суда, и обнаженную человеческую плоть в этом случае следует воспринимать как часть человеческого естества, которая наиболее приближена к Богу. Обнаженная плоть – это открытость и возможность пережить спасение.
– Я не про это спрашиваю, – ответила рука, – как вы на это смотрите? Для вас это нормально?
Ася на мгновение задумалась.
– Для меня – нет, не совсем.
Короткий звонок разорвал тишину пустых коридоров и возможная дискуссия о взглядах Микеланджело закончилась так и не начавшись.
Ася испытала почти физическое удовольствие при этом звуке. Как курильщик, который вот-вот выкурит сигарету, или как измученный жаждой странник, который вот-вот глотнет воды.
Она улыбнулась, пожелала всем хорошего дня и, вильнув своим тонким изящным телом, направилась к выходу. Каждое движение, фраза, жест были нарочито медленными и размеренными, чтобы никто ни в коем случае не заподозрил ее внутреннюю истерику. Идя по коридору, она слегка прижимала к себе папки с бумагами, кивала в разные стороны, улыбалась и повторяла одно и то же:
– Добрый день. Здравствуйте. Добрый день.
От невозможности больше терпеть у нее слегка похрустывало в горле, и она боялась, что прямо на последних шагах может сорваться и сквозь улыбку, румяность и счастье начать горько плакать. Последние шаги в маленьком коридорчике перед туалетом были самые мучительные.
Только повернув два раза защелку, она испытала облегчение. Сразу меняясь в лице, она потемнела, посерела и почти уменьшилась в размерах. Положив на умывальник папки, сбросив сумку с плеча просто на пол, она прислонилась лбом к холодному кафелю. Закрыла глаза. Дыхание частое и сумбурное выравнивалось, становилось более спокойным, выходя и входя через приоткрытые розовые губы, оно ударялось о холодные кафельные плитки и растворялось в воздухе. Ася медленно подняла ладони и прислонила их к прохладной, как живительная влага, стене. Ей становилось легче. По-настоящему легче. Сердце переставало болеть, разум расслаблялся и отпускал себя на свободу. Глубоко и длинно, словно в последний раз, она вдохнула носом и на выдохе, еще более длинном и протяжном, дрогнула каким-то незримым своим внутренним естеством, которое пряталось где-то между глазницами и мозгом, и поймала образ.
Ее накрыло изнутри и снаружи мгновенно. Образы всегда были разные, и она не знала, чего ждать наверняка. В этот раз она будто уткнулась носом в гладкое теплое плечо, и обнаженные сильные руки сгребли ее в охапку и сдавили до боли в ребрах. Ася замерла. Потом еще глубже, еще надрывнее она снова прижалась к плечу, повела головой и вдохнула аромат. Сменяясь оттенками, будто нарастающая морская волна, такой родной, почти горячий запах проник ей сначала в нос, потом в глаза, потом в мозг, стремительно спустился по гортани и щемящими накатывающими сжатиями ухватил где-то за грудиной. Ася зашлась. Дрожь прокатилась по всему телу. Она провалилась в образ и на мгновение перестала чувствовать холодную стену, звенящий пол и забыла настоящее. Теплые руки погладили ее по спине, сжали волосы, и губы нашли губы. На самой кромке сознания Ася понимала, что ничего нет, что она просто стоит в туалете, прислонившись лбом к стене, что через десять минут у нее начинается следующая пара, но реальность и яркость близости не давали ей никакой возможности противостоять. Отпуская себя, она хватала губами губы, переживая и жар и пламя, подавалась вперед, отдаваясь сильным, поглощающим всё ее тело рукам, дрожала, вдыхая запах кожи. И как удав поглощает кролика, так поглощала она своим сознанием это видение, сжимаясь и расслабляясь всей душой и проталкивая его все дальше, внутрь себя, в память, в боль, в прошлую радость.
Каждый раз она не понимала, сколько длится это стояние, но судя по университетским звонкам на пары, всегда недолго, не больше десяти минут. Когда ее отпускало, она медленно открывала глаза и, тяжело дыша, упиралась взглядом в белую стену. Потом поправляла волосы, одежду, хотя как оно там могло всё сбиваться, если она почти не двигалась, она не понимала. Иногда красная как от огня, иногда с холодными капельками пота на спине, Ася поворачивалась к зеркалу и смотрела на себя. Потом почти всегда накатывала тоска. Понимая, что ей больше никогда не пережить этих объятий, и не в силах держаться, она наклонялась, приоткрывала рот и давала слезам капать. Никаких звуков, полная тишина. Слезы падали на пол, на белую крышку унитаза, ей под ноги.
– Был дом, его не стало, – иногда тихо шептала она, пошатываясь как раненая и держась за стену.
Слезы падали, пока не попадали в какую-то точку в носовых пазухах, не совсем для Аси ясную, но всегда действенную, и не выбрасывали в мозг неведомый гормон успокоения. Только тогда ей становилось легче. Она разгибалась. Могла дышать и весь остальной день походить на человека.
Такие стояния в туалете происходили с ней последние два месяца и эмоционально истощали Асю все больше и больше. Она понимала их ненормальность, не хотела их, но не могла остановиться. Причем ни дома, ни на улице, ни где бы то ни было еще, ее не накрывало так сильно никогда. Могли быть оттенки, отголоски, но с такой силой больше нигде. Ася помнила, как случился первый такой раз. Она пришла на работу после долгого перерыва, вела много пар подряд, почти до самого вечера, и к концу дня поняла, что если сейчас не уединится, то просто сойдет с ума от накрывающей ее боли и одновременного равнодушия окружающего мира, требующего от нее адекватности, «умности» и радости. Она бежала тогда по коридору, уже не обращая внимания ни на кого. Заперлась, ударилась лбом в стену и начала скулить задыхаясь. Что-то шептала, наверное, звала. Так сильно, что сознание не выдержало и дало облегчение. Да. Так и было. И теперь она не могла остановиться. Не могла. Не знала, как. И, наверное, не хотела.
Читать лекции было еще терпимо, но вступать в диалог и вызывать в себе способность размышлять о действительности было для нее мучительным испытанием. Ее душа, словно мышка, зажатая в маленький плотный шар, наполненный вывернутыми внутрь шипами, боялась сделать любое движение, чтобы не пораниться лишний раз.
Подъехав к дому после работы, она долго сидела в машине и смотрела перед собой, пока не позвонила сестра.
– Ты дома уже?
– Нет. В машине сижу. Сейчас пойду.
– Думаешь?
– Наверное, сейчас нет. Устала я сильно.
Обе помолчали.
– Ася, надо выходить. Так нельзя.
– Я знаю.
Она действительно знала. Смотрела на себя со стороны и понимала, что, да, надо выходить. Причем и способов выхода знала десятки, и сама себе могла бы дать целую связку советов, и показать эти пути выходов, и даже по некоторым из них начинала себя вести. Но потом неожиданно останавливалась, смотрела внутрь и видела «ничего». Вместо души – одна большая бездонная дыра, и только сохранившаяся тонкая физическая оболочка вокруг этой души позволяла думать, что она, Ася, всё еще существует. Она подолгу смотрела в эту дыру, понимала бессмысленность любого пути, возвращалась в боль и продолжала жить дальше.
Поэтому в разговоре с сестрой она согласилась с ней во всем, выслушала все советы и с обреченностью висельника пообещала попробовать еще раз. Положив трубку, пошла домой, к детям. Только в их мягких руках и объятиях она находила хоть какое-то успокоение и облегчение.
Однако с того дня Ася снова начала терпеть, наполняя мир вокруг себя делами, спокойствием и видимым счастьем. Она ходила на работу, делала уроки с младшими детьми, каждый день звонила старшим и подолгу болтала, каждый вечер готовила ужин, а по выходным или просто в свободные вечера ходила в кино и на концерты.
Всё это время, начиная от момента принятого решения и чем дальше, тем больше, Ася чувствовала накатывающую откуда-то издалека, от горизонта, клубящуюся и пенящуюся пустоту. Одновременно пугающую, потому что это пустота и нет в ней ничего, и одновременно притягивающую, потому что это пустота и нет в ней ничего.
Долго ждать не пришлось.
В один из дней, идя по центру города, она вдруг поняла, что больше незачем.
Краснокирпичные здания, всегда так ярко создающие теплоту города, вдруг начали сереть прямо у нее на глазах. Из деревьев, тускнеющих и теряющихся на фоне этих зданий начала вытекать вся зелень. Синее небо, которое так часто было заботливо к ней и много раз облегчало страдания, поседело и потеряло цвет. Ася остановилась. Она почувствовала, как у неё изнутри, вместе с красками всего мира, тонкой струйкой вылились остатки жизни. Она вдохнула и ей показалось, что вдоха тоже не было. Разжав руки, Ася выпустила сумку и, облегчённо сгибая подкосившиеся ноги, села на асфальт.
Глава 2
Таспар-каган подошел к реке. Он подковырнул загнутым носом старого изношенного сапога плоский широкий камень, и тот, перевернувшись несколько раз в воздухе, бултыхнулся в прозрачную ледяную воду. Вода. Таспар-каган повел носом, почувствовав ее холод, и у него от жажды облегчения закололо в макушке. Уже шестой день, начиная от полной луны, не прекращаясь ни днем ни ночью, его мучила сдавливающая боль в висках. Она вытягивалась изнутри тонкими пиявочными жгутами, опоясывала, пульсировала, а в самые тяжелые мгновения сдавливала голову плотным кольцом вызывая мучительную тошноту и темноту в глазах. Эти приступы могли длиться месяцами, они приходили из ниоткуда, оставляли его на короткое время, а потом возвращались снова. Каган представил, как сейчас подходит к самой кромке воды, ступая в нее замшевыми вытертыми сапогами, наклоняется к ее прохладе, загребает полную пригоршню и омывает уставшую измученную голову. От жажды облегчения у кагана пересохло в горле, и он, слабо причмокнув тонкими потрескавшимися губами, снова повел носом и вдохнул влажный воздух.
Сзади за ним послышались переминающиеся на камнях шаги. Правитель обернулся. К его ногам тут же рухнул тархан и, склонив голову, протянул руку вперед:
– Воины ждут, мой господин.
Таспар окинул взглядом прибрежный холм. От края до края он был заполнен спешившимися конниками. Он не помнил имени тархана. Ступив несколько шагов вперед, он обогнул его склонившееся в почтении тело, но сделал это все же достаточно медленно, чтобы у того была возможность коснуться края бахромы и отделки из драгоценных камней на замшевых ханских сапогах.
Прищуриваясь от слепящего закатного солнца, он встал перед войском, расставив ноги и засунув большие пальцы в отверстия на расшитом золотом поясе. Почему так неимоверно сильно болит голова? Мучился он одним и тем же назойливым вопросом. От боли ему хотелось убивать. Может быть, поэтому они шли не останавливаясь семь дней по землям огузов, сжигая и сметая все на своем пути, пока не дошли до края границы. Выдохшиеся, умытые кровью воины смотрели на него выжидающими застывшими взглядами сытых змей и молчали. Только редкое побрякивание трофеев о деревянные, затянутые в кованый металл щиты нарушало степную тишину.
– Здесь, – крикнул Таспар-каган ударяя копьем в землю, – мы принесем жертву Тенгри! Добрый отец неба отдал нам в руки бунтующих данников! Никто из вас не пролил своей крови лишний раз! Никого из погибших храбрых воинов не оставили мы на полях сражения! Никому не устрашить идущую по степям армию Таспар-кагана!
Нарастающим будоражащим гулом и равномерным постукиванием о щиты приветствовали каждый выкрик своего правителя стоящие на холме конники. Когда он закончил, то от толпы отделились три увешанные шкурами и амулетами фигуры. Следом за ними, пробиваясь сквозь гудящих и стучащих воинов, вышел разрозненный по росту и рангам отряд. Они волокли трех пленников – молодых бойцов из стана огузов. В оборванной одежде, с изодранной и в кровоподтеках кожей, они, спотыкаясь и заплетаясь ногами, потому что вели их за волосы, склонив низко к земле, переступали рядом со своими конвоирами.
Вся процессия быстро и под равномерный гул толпы спустилась близко к реке, к месту немного в стороне от стоящего на берегу хана, где уже было организовано их походное разборное капище.
Потряхивающие телом шаманы начали свой магический неспешный танец вокруг кострища, разложенного тарханами на берегу реки. Самый старый стоял спиной к воде и равномерно ударял в затянутый оленьей кожей бубен. Двое других, мыча и подгибая колени в такт каждому удару, ждали приближающихся пленников. Таспар не сел в круг по своему обыкновению, он встал поодаль и тоже присоединился к гулу и грудному пению. Застилающая глаза боль больше не давала ему возможности отдышаться. Он ждал пленников не так, как шаманы, он смотрел на каждый их шаг с холодным вожделением ястреба.
Когда гул толпы и танец шаманов достиг наконец своего апогея, пленников поставили на колени перед каждым из беснующихся магов. Выкрикнув заклинания, а потом что-то нашептав каждому юноше на ухо, они выдернули из-за своих поясов тонкие изогнутые ножи и со скоростью стрел, пронзающих степные ветры, вонзили их в подвернутые конвоирами шеи своих жертв. Колющая жажда, отдающаяся в ступнях и в ладонях, подогреваемая мычанием и пением, иссушила все тело Таспар-кагана, и когда он увидел первые капли брызнувшей крови пленников, гортань его дернулась, задрожала и, издавая победный бычий рев, родила над алтайскими хребтами воплотившуюся мистическую власть.
Забываясь, выгибаясь, впадая в общий транс с окружившей капище толпой, Таспар, переступая с ноги на ногу и подергивая плечами, едва заметными отголосками наконец ощутил покалывающее откатывание неистовой грызущей его боли.
Его уста подернула усмешка удовлетворения.
– Тенгри… – прошептал он и продолжил танец. Он знал, что облегчение будет всего на несколько часов, но оно все же будет…
И никто, ни сам хан, ни его шаманы, ни даже сухие степные ветры не знали тогда, что до коренного перелома оставалось всего лишь несколько часов.
За предыдущие сто лет предшественники Таспар-кагана захватили почти все просторы Азии, начиная от Желтого моря и заканчивая территорией сасанидов. Время славных сражений и новых завоеваний прошло прямо перед ним, и, несмотря на то, что сейчас государство тюрков считалось самым сильным, славы великого полководца он так и не сыскал. Поэтому, когда на окраинах империи возникал хоть малейший намек на бунт, Таспар выдвигался вместе со своей армией и беспощадно расправлялся с любым неповиновением. Много раз за время его правления советники пытались склонить хана к принятию единой для империи религии. Они убеждали господина в том, что единоверие поспособствует не только укреплению его власти, но и еще больше объединит империю. Таспар склонялся под их давлением и даже разрешил распространение учения Будды. Северная Чжоу и северная Ци, с которыми тюрки то мирились, то враждовали, исповедовали это учение как религию. На территории долин Инда и Ганга, за Гималаями, с коренными племенами которых тюрки соприкасались изредка, поклонение Будде оставалось только учением. Таспару было все равно, как назовут новую религию в его империи, его волновало другое – даст ли она стране настоящее единство, так как это делали древние боги. Поэтому, сомневаясь и колеблясь, он, особенно в военных походах, поклонялся и приносил жертвы Тенгри, прислушиваясь к пророчествам шаманов и доверяя им самые важные государственные вопросы. К тому же для Таспара был немаловажен еще один факт, который влиял на приверженность старым богам: его головные боли, которые могли мучить хана целыми днями, а иногда и целыми неделями, проходили на несколько часов только во время ритуальных танцев.
Так было в размеренной жизни хана всегда. Всегда… До определенного момента…
Пока не случилось странное событие для всего его стана.
В то утро, после приношения жертв Тенгри, к хану не вернулась боль.
Когда солнце уже довольно высоко поднялось над степью, он вышел из своего шатра, призвал советников и отдал только одно приказание: поставить на той стороне бурлящей реки прямо у возвышающегося скального хребта камень в три человеческих роста и высечь на нем круг и орла.
Тогда никто из стана еще не понимал, что случилось с Таспаром и с кем он провел ночь.
Слуги просто молча исполнили пожелание кагана.
К скале привалили камень в три человеческих роста, высекли на нем круг, орла и руническую надпись, означающую «облегчение».
С тех пор среди седых хребтов Алтая стала блуждать легенда о таинственном месте и камне, стоящем на нем. Волшебном камне. Камне, приносящем успокоение от боли. Много паломников приходило туда в разные века, многие столетия было это место в запустении, но никогда не умирала вечная легенда и рано или поздно вновь и вновь воскрешала свою былую славу и манила к себе истерзанные души. Пока, наконец, одна из пришедших общин не высекла в скале, прямо рядом с камнем, первые кельи огромного монастыря.
Глава 3
Полукруглое почти до пола окно открывало вид на каменистый берег некогда бурной, но сейчас обмельчавшей горной реки. На том берегу весь холм покрывала редкая степная растительность, пробиваясь лохматыми кустарными пучками между разбросанными то тут, то там камнями.
Ася сидела у окна молча. Белая майка с коротким рукавом, бежевые брюки и босые ноги на чистом полу. Она была в приюте уже пятый месяц. Дочь нашла его для неё. Там было полно таких: сумасшедших, потерянных и пустых. Ася была самая выдающаяся. Она была в сознании, могла ходить, есть, спать, могла слышать и откликаться на просьбы о простых действиях, но в то же время никогда не проявляла никакой деятельности и активности, за все время пребывания в приюте не проронила ни одного слова и никогда не выразила чувства голода или жажды.
Она не помнила, как шла по городу, как обесцветился для нее весь мир, как она просто опустилась на булыжную мостовую и как проходящие мимо люди стали наклоняться, спрашивать, тормошить её, а один заботливый мужчина даже попытался поднять. Из сознания женщины полностью стерлись последняя произнесенная ею фраза: «Я хочу домой» – и момент, когда приехала старшая дочь Яночка. Всё для нее закончилось тогда, на той мостовой, в тот потухший день.
Здесь, в обители, обыкновенный день Аси состоял из пробуждения, переодевания, завтрака, процедур, сидения у окна, обеда, процедур, сидения у окна, ужина, омовения, сна. Никаких лишних движений, волнений или всплесков. Мистическая и величественная тишина монастыря распространялась и на приют. Он прилегал вплотную к наполовину скальной обители и почти так же, как и монастырь, утопал в скале. Тридцать шесть келий, причудливо переплетаясь коридорами и прячась друг за другом, уходили в глубь камня, скрывая своих обитателей от мира и даже от солнца. Таких келий, как у Аси, с огромным и почти до пола окнами было всего десять, остальные не нуждались в дневном освещении.
Когда Яна первый раз увидела монастырь, то не поверила своим глазам. Логистические и архитектурные решения сооружения впечатляли: весь комплекс занимал несколько сот метров вдоль берега, уходя основной своей частью в скалу; выровненное каменное плато между рекой и входом было изрезано дорожками, извилистыми аллеями с карликовыми деревьями, наполнено парковыми фонтанами и прогуливающимися, прыгающими и ползающими между растительностью птицами, белками, черепахами; все входы и выходы приюта заполняли разного рода статуи, надписи на санскрите и резные деревянные украшения разных размеров. Блуждающие туда-сюда и почти незаметно обслуживающие всю эту гигантскую махину монахи в красно-желтых одеждах создавали еще более безмятежный и отрешенный от реальности внешний вид обители. Отдельным современным двухэтажным зданием в стиле хай-тек к приюту, с противоположной от монастыря стороне, прилегал комплекс для персонала и врачей. Там были свои небольшие сады, площадки и маленькие квадратные водоемчики с птицами. Для каждого находящегося в приюте были созданы настолько комфортные и предупреждающие условия, что не исцелиться здесь, по мнению Яночки, было бы просто преступлением.
Каждая келья, оборудованная всем необходимым, имела автономную систему отопления, освещения, кондиционирования и откликалась на биометрические данные своих владельцев. Умное управление и автоматизация всех процессов позволяла проводить жизнь в комфорте, безмятежности и спокойствии. Пациенты в приюте были разные. Разные по тяжести заболевания и разные по степени материальной обеспеченности. Только некоторые из них хотели полного отрешения от мира и уединения, остальные же имели разного рода психологические отклонения и депрессивные, граничащие с суицидальными состояния.
Нагуглить приют просто так было невозможно. Яна узнала о нем случайно, после того как неожиданно разрыдалась в кабинете у своего начальника и он, выпытав, что происходит, дал адрес и телефон нужного человека. Девушка уже не верила ни во что, потом вступила в закрытое сообщество, долго читала отзывы, переписывалась и, наконец, почему-то решила, что там маме смогут помочь.
Монахи приняли Асю с радость, той самой спокойной равнодушной радостью, которую можно встретить на подобных им лицах в Тибете, приняли крупную сумму денег и устроили ее в лучшей келье.
Ася сидела у окна молча.
Ее комната была почти полностью выдолблена в скале, каменистый полукруглый оконный проем разделял ее стеклом со всем остальным миром. Сегодня небо окрасилось в особо красивый закат. Тучи, немного лиловые сверху, снизу подсвечивались красно-оранжевым уходящим солнцем. Сегодня был день посещений, сегодня должна была приехать Яночка. Но Ася не знала об этом, как не знала и все дни до этого. Она по-прежнему смотрела сквозь дочь и по-прежнему никак не реагировала на окружающий мир.
Яночка вошла тихо, сбросила сумку на пол, потерла нос одновременно огорченно и обрадованно и, подойдя сзади, обняла маму за плечи. Она ничего не ждала, только вдыхала такой родной и теплый аромат волос, который с самого ее детства совсем не изменился. Долго так стояла, потом обошла спереди и, присев перед ней на корточки, сказала:
– Мамутька, я приехала, – она сделала паузу и заулыбалась, – я так скучаю без тебя.
Девушка подняла ее ладони и погладила ими себя по голове.
– Помнишь, как мы с тобой часто гуляли и ходили по магазинам, помнишь, как ты рассказывала мне свои смешные истории, и мы долго с тобой смеялись? Помнишь, мама?
Ася смотрела в окно и молчала, как и все разы до этого. Закат стал ещё более лилово-розовым и растянулся на всю нижнюю кромку неба. Девушка легла головой к ней на колени и обняла ноги. Слезы капнули в ладони Аси.
– А помнишь колыбельную, которую ты пела мне и младшим? Помнишь? – и запела. – Ложкой снег мешая, ночь идёт большая, что же ты, глупышка, не спишь…
Она пела, плакала и немного раскачивала мамины ноги.
Тихо открылась дверь и едва заглянувшая в комнату медсестра прошептала: