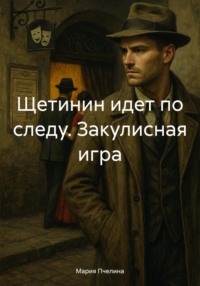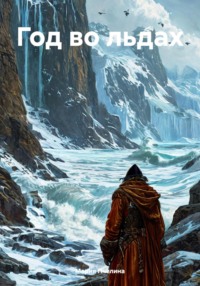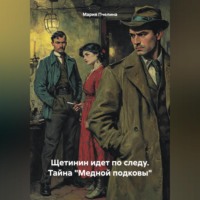Полная версия
Синяя Луна
На следующий день он заметил слежку. На углу улицы стояла фигура в сером пальто – неподвижная, но её голова слегка покачивалась, как маятник. В метро женщина с пустыми глазами смотрела на него, покачивая головой в том же ритме. Даниил пытался притвориться, что ничего не изменилось, но смех, как яд, остался в нём. Он хихикал, запираясь в ванной, заглушая звук полотенцем. По ночам радио, которое никто не выключал, шептало: «Смех – это утечка. Смех – это ошибка куклы». Голос был монотонным, но слова вгрызались в сознание, как ржавчина.
Он начал видеть их повсюду. Фигуры в сером стояли на перекрёстках, у подъездов, под фонарями. Они не двигались, но их головы качались, как будто кто-то дёргал за невидимые нити. Коллеги в офисе молчали, но их взгляды были тяжёлыми, как камни. Даниил находил в своём столе записки: «Ты смеялся. Мы знаем». Почерк был его, но он клялся, что не писал. Однажды он заметил, что его отражение в стекле витрины улыбается, хотя его лицо оставалось неподвижным.
Он искал ответы. В заброшенном кафе на окраине, где пахло сыростью и кофе, он встретил их – подпольную группу, называвшую себя «Манифест». Их было пятеро, все с неестественно широкими ртами, растянутыми в улыбках, которые казались вырезанными ножом. «Смех – это воля, – шептала женщина с пустыми глазами. – Это то, что они не могут украсть». Они верили, что смех – остаток подлинного, ключ к свободе от контроля, который держал город в своих когтях. Но их лица были безликими, кожа – слишком гладкой, как у манекенов. Они смеялись, но звук был неправильным – резким, как треск ломающегося пластика. Даниил хотел уйти, но его смех уже был их. Он смеялся с ними, чувствуя, как его губы растягиваются всё шире, до боли.
В ту ночь он вернулся домой, но не мог остановиться. Смех рвался из него, как кровь из раны. Он смеялся, пока горло не охрипло, пока лёгкие не начали гореть. Он видел, как его отражение в зеркале смеётся, но глаза остаются пустыми. Фигуры в сером стояли за окном, их головы качались, как метрономы. Радио шептало: «Смех – это конец. Ты ошибка». Даниил упал на пол, смеясь, пока его сердце не остановилось.
Через неделю его нашли. На лице застыла улыбка, слишком широкая, чтобы быть человеческой. Городской архив добавил запись: «Дело закрыто. Контроль сохранён». Радио запустило новый цикл вещания, и голос, теперь чуть громче, повторял: «Смех – это утечка». На улицах появились новые фигуры в сером, их головы покачивались. А в подвале муниципального здания кто-то снова хихикнул – тихо, как шорох листьев.
Ночной канцелярит
Дмитрий сортировал папки в архиве, когда заметил первую странность. Протокол от 1987 года, пожелтевший, с чернильными кляксами, содержал новую строку: «Лицо нематериальной важности: подлежит пересмотру». Почерк был похож на его собственный – аккуратный, с длинными хвостами у букв «г» и «й», но искажённый, как будто писала дрожащая рука. Дмитрий, тридцатилетний архивариус с тремя годами стажа, списал это на недосып. Архив, затерянный в подвале административного здания, был местом, где время текло медленно, а воздух пах пылью и старым клеем. Но в ту ночь он не спал, вглядываясь в строки, которые, он был уверен, вчера не существовали.
На следующий день изменения продолжились. В документах 70-х годов появились пометки: имена, даты, целые абзацы, написанные тем же искажённым почерком. Дмитрий проверил журнал посещений – никто, кроме него, не входил в архив после шести вечера. Он начал фотографировать страницы, чтобы сравнить их утром, но на снимках текст был размыт, как будто чернила растекались под объективом. К вечеру он заметил новую категорию в реестре: «Лица нематериальной важности». Список был коротким – несколько имён, которых он не знал. Но одно из них, Елена Смирнова, оказалось знакомым. Она работала в бухгалтерии на третьем этаже. Или работала? Когда он спросил коллегу, та нахмурилась: «Смирнова? У нас такой нет». Фото Елены в базе было пустым – серое пятно вместо лица.
Дмитрий начал копаться глубже. Он нашёл старые дела, где упоминались другие «лица нематериальной важности». Все они исчезли – не только из базы, но и из памяти. Коллеги, которых он спрашивал, смотрели на него с недоумением, как будто он говорил о призраках. Он заметил, что люди в офисе начали отводить глаза, когда он проходил мимо. Начальник, обычно ворчливый, теперь смотрел сквозь него, словно Дмитрий был стеклянным. На третий день он обнаружил, что табличка с его именем на двери архива исчезла. Вместо неё – голый металл, холодный на ощупь.
Он решил остаться в архиве ночью. Запер дверь, выключил свет, оставив только настольную лампу. Тишина была такой плотной, что он слышал собственное дыхание. В полночь он услышал шорох – не шаги, а скольжение, как будто кто-то листал тысячи страниц одновременно. Он обошёл стеллажи, но ничего не нашёл. Только в углу, за шкафом, появилась дверь – узкая, деревянная, с ручкой, покрытой патиной. Днём её не было. Дмитрий толкнул её, и она открылась без звука.
За дверью был зал, огромный, как собор, с бесконечными рядами папок, уходящих в темноту. Воздух был тяжёлым, пах чернилами и чем-то живым, как дыхание. Папки были подписаны датами – 2026, 2030, 2047, – и все они содержали его имя. «Дмитрий Ковалёв, писарь незарегистрированных реальностей», – гласила одна из записей. В другой описывалось, как он переписал жизнь женщины, убрав её из памяти семьи. В третьей – как он добавил в реальность ребёнка, которого никогда не существовало. Страницы шевелились под пальцами, словно дышали. Дмитрий чувствовал, как его собственные воспоминания растворяются – детство, голос матери, запах её духов, – всё уходило, как чернила в воде.
Он дошёл до последней папки, толстой, с обложкой, похожей на кожу. Внутри была одна страница: «Дмитрий Ковалёв. Принят в штат. Писарь незарегистрированных реальностей. Начало работы: немедленно». Почерк был его, но без искажений – чистый, уверенный. Он попытался закрыть папку, но она не поддавалась. Зал начал сжиматься, стеллажи надвигались, а шорох страниц стал громче, превращаясь в голоса: «Пиши. Пиши нас». Дмитрий закричал, но его голос утонул в тишине.
Утром архив был пуст. Стол Дмитрия был чист, папки стояли ровно, как будто никто их не трогал. Новый сотрудник, пришедший на смену, не заметил ничего странного. Только в углу, за шкафом, он почувствовал лёгкий сквозняк, как будто где-то приоткрылась дверь. А в городе кто-то перестал существовать, хотя никто этого не заметил.
Те, кто зовут сквозь вывески
Утро начиналось как всегда – бессмысленно. Я встал без тревоги, потому что не ставил будильник, потому что не знал, зачем вставать, потому что всё равно знал: выйду из квартиры, пойду по улице, сяду в офисе, посмотрю в экран, пойду обратно.
Город, в котором я жил, не имел имени. Я пытался вспомнить – ничего. Может, оно и есть, но не для меня. Адрес моей квартиры был написан на табличке у двери: "Сектор 4-Б, Ячейка 114". Это всё, что требовалось знать.
Путь до работы занимал двадцать три минуты. Я не считал их, просто чувствовал. Люди вокруг – такие же, как я: с пустыми лицами, с одинаковыми зонтами, одинаковыми походками.
Но в этот раз – впервые – я заметил нечто.
На пересечении улиц, где обычно висела реклама какой-то зубной пасты или страховки, появилась новая вывеска.
"Вы забыли, кто вы."
Она была выполнена в том же стиле, что и другие баннеры: строгий шрифт, фон в серых тонах. Но я чувствовал, что она смотрит на меня.
Я остановился. Люди проходили мимо, как будто её не было. Один даже прошёл сквозь её проекцию – и ничего.
Я вернулся домой. Целый день просидел в кресле. Слово "забыли" не выходило из головы.
Я ведь действительно не знал, кто я. Ни одного воспоминания о детстве. Только серая пелена.
На следующий день появился другой баннер:
"Возвращайтесь в пустоту."
Он был на здании напротив моего окна.
Я закрыл глаза. Открыл. Он остался.
Слово "пустота" не пугало. Оно казалось… знакомым.
Я стал замечать другие вывески.
На задворках города, где будто никто никогда не ходит, появилась надпись на металлической конструкции:
"Голос ваших настоящих родителей ждёт."
Я не знал, были ли у меня родители. Я не знал, был ли я.
Ночью мне снилось, как я стою на улице, усеянной баннерами. Они мерцают, как неон в тумане. Они шепчут. Я не могу разобрать слова, но знаю смысл: «Ты не один. Но ты не ты».
На четвёртый день я заметил мелкий текст под одной из вывесок. Координаты.
"Сектор G, Подуровень 9. Вход с улицы Скрытых Моделей."
Я не знал, где это, но ноги сами привели.
Сначала – подземелье под торговым центром, вонючие лестницы, своды без плитки. Потом – улица, на которой будто нарисованы дома.
Стенки не отбрасывали теней. Фонари светили вбок, как будто нарочно не туда, куда нужно. Воздух дрожал. Ни одного звука.
Он ждал меня посреди улицы. Человек в безупречном чёрном костюме, с лицом – без лица.
Манекен? Нет. Плавная кожа, ровная, лишённая глаз и рта, но в ней было… выражение. Оно смотрело на меня без глаз. Оценивало.
– Вы были одной из проекций, – произнёс он. Голос звучал у меня в голове. – Вы просрочены.
Я хотел задать вопрос, но он уже отвечал.
– Вас генерировали сто шестьдесят четыре раза. Все версии завершились системной тишиной. Эта – последняя. Баннеры были тестом на чувствительность. Вы прошли. Добровольно вышли за границы.
Я смотрел на него, но чувствовал не страх, а будто… лёгкое облегчение.
– Вы рекламная модель. Внутренняя оболочка. Мы использовали вас для тестирования эмпатических резонаторов. Поздравляем. Вам возвращён доступ к конечному кадру.
Меня повело. В глазах – рябь. В ушах – музыка из рекламного ролика, которого я никогда не слышал, но знал наизусть. Вкус синтетической мяты. Яркий логотип, вращающийся в черноте. Шепчущий голос:
«Спасибо, что были с нами. Мы больше не нуждаемся в вашем присутствии.»
Я закрыл глаза. Когда открыл – никого не было. Ни города, ни человека, ни фонарей.
Только тишина.
И под ногами – асфальт, на котором осталась тень.
Она была плоской, ровной, как от руки, вырезанной ножом. Внутри неё – логотип:
∞ [OMNI-EMOTION TESTING™]
Тень дрогнула.
А потом исчезла.
Стук из подвала
Кира листала фотографии старого дома на экране ноутбука, пока Антон возился с коробками в их городской квартире. Дом был находкой: двухэтажный, с покосившейся верандой, окружённый зарослями шиповника, в часе езды от города. Цена – почти даром. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», – пробормотала Кира, но Антон, всегда оптимистичный, отмахнулся: «За такие деньги я готов мириться с парой скрипучих половиц». Хозяин, пожилой мужчина с лицом, похожим на потрескавшуюся глину, был немногословен. Подписав документы, он вручил им ключи и бросил: «Подвал давно засыпан, туда не лезьте. Всё равно там ничего нет». Его взгляд задержался на них чуть дольше, чем нужно, но Кира списала это на усталость от переезда.
Они въехали в конце октября, когда воздух пах прелой листвой, а деревья вокруг дома стояли голыми, как скелеты. Дом был тёплым, несмотря на возраст, с толстыми каменными стенами и фундаментом, который, по словам хозяина, «пережил три войны». В первую ночь Кира проснулась ровно в три часа. Тук… тук… тук… – звук шёл снизу, из-под пола, ритмичный, как метроном. Она толкнула Антона, но он только пробормотал: «Трубы, наверное», – и перевернулся на другой бок. Кира лежала, вглядываясь в темноту, пока стук не затих через несколько минут. Она решила, что это действительно трубы – старый дом, чего ещё ждать?
Но стук повторялся. Каждую ночь, ровно в три, как будто кто-то внизу методично бил по камню. Антон, сначала отмахивавшийся, начал хмуриться. «Может, крысы?» – предположил он, но Кира покачала головой. Звук был слишком тяжёлым, слишком человеческим. На третью ночь она записала его на телефон – низкий, глухой, с паузами, как дыхание. Утром запись оказалась пустой, только лёгкий шорох, как будто кто-то вытер звук. Антон, всё ещё скептичный, но уже раздражённый, сказал: «Проверю подвал. Хватит гадать».
Подвал был доступен через люк в кладовке, закрытый тяжёлой деревянной крышкой. Антон спустился с фонариком, Кира стояла наверху, держа телефон, готовая звонить в полицию, если что-то пойдёт не так. Внизу было сыро, пахло землёй и чем-то кислым, как забродивший компот. Каменные стены блестели от влаги, пол был засыпан землёй, плотной, как бетон. Антон постучал по ней лопатой – звук был глухим, но в одном месте, у дальней стены, отозвался эхом, как будто под землёй была пустота. Тук… тук… тук… – он стукнул ещё раз, и Кира сверху вздрогнула: звук был точь-в-точь как ночью. «Здесь что-то есть», – крикнул Антон, начиная копать. Земля поддавалась неохотно, комья были влажными, тяжёлыми. Через полчаса он наткнулся на камень – плоский, гладкий, с вырезанным символом, похожим на букву «Т», но перевёрнутую. Он засыпал яму обратно, утрамбовал землю и сказал: «Просто камень. Может, старый фундамент». В ту ночь стук не вернулся. Кира вздохнула с облегчением, но в её снах кто-то шептал: «Ты не должен был трогать».
Два дня было тихо. Они начали распаковывать вещи, повесили шторы, даже посмеялись, что дом, кажется, решил их принять. Но на третью ночь стук вернулся – теперь сверху, прямо над их кроватью. Тук… тук… тук… – медленный, но громче, чем раньше, как будто кто-то ходил по потолку. Кира вцепилась в руку Антона, её сердце колотилось. Антон включил свет, но потолок был чистым, без следов. Они проверили чердак – пыльный, с паутиной и старыми досками, но пустой. Утром Кира заметила, что её кольцо, оставленное на тумбочке, исчезло. Антон нашёл его под кроватью, но оно было холодным, как будто лежало в холодильнике.
Стук стал двигаться. Теперь он звучал не только над кроватью, но и в коридоре, на кухне, у входной двери. Тук… тук… тук… – шаги, тяжёлые, но неравномерные, как будто кто-то хромал. Кира перестала спать, сидела по ночам с ножом в руке, вглядываясь в темноту. Антон установил камеру в спальне, но запись показывала только их спящие фигуры, а стук был слышен, как будто камера его игнорировала. Однажды ночью Кира проснулась от чувства, что кто-то смотрит. Она включила свет – Антон спал, но над ним висела тень, нечёткая, как дым. Когда она моргнула, тень исчезла, но стук стал громче, ближе, как будто кто-то стоял у изголовья.
Они решили уехать. Собрали вещи за день, не глядя друг на друга. Кира не могла избавиться от чувства, что дом их не отпустит. Когда они садились в машину, она обернулась – в окне второго этажа мелькнула фигура, но дом был заперт. Антон газанул, и они уехали, оставив ключи в почтовом ящике. Через неделю Кира позвонила соседке, пожилой женщине, живущей в километре от их дома. «Слышите что-нибудь странное?» – спросила она. Соседка помолчала, потом ответила: «Стуки. Каждую ночь, в три. Иногда один. Иногда два, как будто их двое». Кира повесила трубку, чувствуя, как холод сжимает горло.
Дом стоял пустым. Новые жильцы въехали через месяц – семья с двумя детьми. Они не знали о стуках, но в первую же ночь, ровно в три, услышали: тук… тук… тук… – из подвала. А потом второй ритм, чуть быстрее, присоединился сверху. Соседи, проходя мимо, крестились, но молчали. Дом ждал, и стук не прекращался.
Горница для покойника
Деревня Лозовое встретила машину с гробом тишиной. Даже вороны, обычно каркающие над крышами, замолчали, когда чёрный микроавтобус въехал на единственную улицу, засыпанную гравием. Кира, сестра погибшего, стояла у ворот, сжимая платок. Её брат, девятнадцатилетний Максим, разбился в городе на мотоцикле – нелепая авария, пьяный водитель, мгновенная смерть. Родители, Анна и Сергей, были в доме, готовя поминки. Гроб внесли в старую горницу – комнату на первом этаже, с низким потолком и маленьким окном, затянутым пожелтевшей занавеской. Никто не заметил, как соседка, старуха Вера, перекрестилась, увидев, куда несут тело. «Не туда», – пробормотала она, но её никто не услышал.
Горница была особенной. В Лозовом её называли «комнатой для покойника». По обычаю, туда ставили гроб только для подготовки к похоронам – мытья, одевания, молитвы. Но оставлять тело на ночь без отпевания было нельзя. «Неотпетые остаются между сном и гнилью», – говаривала бабка Пелагея, местная знахарка, чей дом стоял на отшибе. Кира не знала об этом. Она была городской, приезжала в Лозовое только летом в детстве. Родители тоже забыли обычай – слишком много боли, слишком мало времени. Гроб поставили в горнице, икону повесили над изголовьем, свечи зажгли. Но молитву не прочли – священник должен был приехать только утром.
В первую ночь Кира проснулась от холода. Часы показывали три. Дом был тих, но за окном выли собаки – не лаяли, а тянули протяжный, тоскливый вой. Она спустилась вниз, чтобы проверить гроб. Икона, висевшая над Максимом, пропала. На её месте – пустой гвоздь, слегка погнутый. Кира зажгла свет, но лампа мигнула и погасла. В темноте она услышала шорох, как будто кто-то босыми ногами прошёл по деревянному полу. Утром она нашла следы – влажные, глинистые, с отпечатками пальцев, ведущие от гроба к окну. Но окно было закрыто, а земля за ним – сухая.
На следующий день странности продолжились. Зеркало в прихожей затуманилось, как будто кто-то дышал на него всю ночь. В отражении Кира видела силуэт – нечёткий, сгорбленный, но не свой. Анна, мать, заметила, что её кольцо, оставленное на столе, исчезло, а вместо него на скатерти остался грязный след, как от ладони. Сергей, отец, молчал, но его руки дрожали, когда он резал хлеб для поминок. Соседи, пришедшие помочь, перешёптывались, но никто не говорил вслух. Только Вера, уходя, бросила: «Позови Пелагею. Она знает». Кира побежала к знахарке.
Пелагея сидела у печи, её глаза, мутные, как речная вода, смотрели сквозь гостью. «Горница не для неотпетых, – сказала она, теребя чётки. – Душа Максима не ушла. Она теперь возвратник. Между сном и гнилью. Ищет свою землю, а вас заберёт с собой». Кира попыталась возразить, но старуха прервала: «Ты видела следы? Это он ходит. Не мстит, а зовёт». Она дала Кире травяной отвар и велела окропить гроб, но предупредила: «Если до утра не отпеть, он не уйдёт. И вы тоже».
В ту ночь Кира не спала. Она сидела у гроба, держа свечу, и шептала молитвы, которых почти не знала. Стук в дверь заставил её вздрогнуть, но за порогом никого не было. Собаки выли громче, их голоса сливались в хор, от которого волосы вставали дыбом. Анна вошла в горницу, её лицо было бледным, как полотно. «Я видела его, – прошептала она. – В поле. Он шёл». Кира выбежала на улицу, но поле было пустым, только ветер гнал сухую траву. Когда она вернулась, Анна исчезла. Её туфли стояли у порога, покрытые глиной.
Утром священник приехал, но было поздно. Он прочёл молитвы, но голос его дрожал, как будто слова не доходили до цели. Сергей пропал в ту же ночь. Кира нашла его пальто в поле, рядом с глинистым следом, ведущим в никуда. Она осталась одна в доме, слушая, как стучат ставни, хотя ветра не было. В зеркале теперь отражался Максим – не мёртвый, но и не живой. Его глаза были пустыми, а губы шевелились, как будто он звал её. Кира пыталась бежать, но ноги не слушались. Она чувствовала, как что-то тянет её к полю, к земле, которая пахла сыростью и гнилью.
К утру деревня опустела. Дома стояли с открытыми дверями, иконы исчезли, зеркала покрылись трещинами. Горница в доме Ковалёвых была пуста, гроб стоял открытым, а на полу – следы босых ног, уходящие в поле. Соседи, жившие в соседней деревне, шептались, что слышат вой собак каждую ночь, а иногда видят фигуры, идущие через поле – одну, две, иногда больше.
Годы спустя дом купила новая семья. Они не знали о горнице, о неотпетых, о возвратниках. В первую ночь, ровно в три, они услышали стук – медленный, ритмичный, как шаги. На пороге, в глине, остались следы босых ног, как будто кто-то вернулся. И снова звал.
Петька-перелесник
Деревня Верхние Лозы стояла на краю леса, где сосны смыкались так плотно, что даже днём там царил сумрак. Петька, семилетний сын Марьи, пропал в среду, когда бегал с другими детьми у опушки. Они играли в прятки, и Петька, смеясь, нырнул в заросли, где тропа терялась в папоротниках. Дети звали его до темноты, но лес молчал. Марья, срывая голос, искала его всю ночь, пока фонарь не потух. Мужики с факелами обошли ближние овраги, но нашли только его кепку, зацепившуюся за ветку. На третий день, когда надежда уже угасала, Петька вышел из леса – грязный, с листьями в волосах, босой. Он стоял на опушке, глядя на деревню, но не отвечал на крики Марьи. Его глаза, обычно голубые, были тёмными, как лесная вода.
Марья обняла его, плача, но Петька не обнял её в ответ. Он молчал, даже когда она умыла его, накормила супом, уложила в кровать. Хлеб он отодвинул, не тронув. «Петька, ты где был?» – спрашивала она, но он смотрел в потолок, будто видел что-то за досками. Соседка, тётя Клава, заметила, что он не отзывается на своё имя. «Может, оглох?» – предположила она, но Марья покачала головой. Петька слышал – она видела, как он вздрагивал, когда скрипела дверь, – но её голос, казалось, проходил сквозь него.
На следующий день Марья повела его к бабке Агафье, знахарке, жившей у околицы. Агафья, сгорбленная, с руками, похожими на корни, посмотрела на мальчика и перекрестилась. «Это не твой, – сказала она тихо. – Настоящий там остался. А это – перелесник». Марья заплакала, но Агафья была непреклонна. «Лес забрал Петьку, а взамен дал своего. Они так делают, когда хотят в наш мир. Не называй его по имени. Имя – это ловушка». Она дала Марье пучок полыни и велела повесить над дверью, но предупредила: «Если он останется, беда придёт».
Беда началась быстро. В ту же ночь у соседей родился мёртвый телёнок – чёрный, с глазами, открытыми, как у человека. На следующую ночь крыша сарая у деда Игната рухнула, будто кто-то тяжёлый ходил по ней. Собаки выли до рассвета, а в избах слышался шорох на чердаках – тихий, но настойчивый, как будто кто-то скрёбся когтями. Петька каждую ночь вставал и стоял у окна, глядя в лес. Его губы шевелились, но слов не было. Марья пыталась уложить его, но он отстранялся, и его кожа была холодной, как земля после дождя.
Деревня зашепталась. Мужики предлагали сжечь полынь и выгнать «чужака», но Марья не могла. Это был её сын – или, по крайней мере, выглядел как он. Она гладила его по голове, но он не смотрел на неё. Только однажды, на пятый день, он поднял глаза и сказал: «Ты не Марья. Ты – Пустота». Его голос был скрипучим, как ветки на ветре. В ту ночь умер дед Игнат. Его нашли утром, сидящим у печи, с лицом, застывшим в ужасе. На полу рядом – следы босых ног, маленьких, как у ребёнка.
Петька начал говорить чаще. Его слова были странными, нечеловеческими, похожими на шорох листвы или треск коры. Он называл людей не их именами, а другими, «внутренними», как говорила Агафья. Тётю Клаву он назвал «Тень-над-водой» – и она пропала на следующую ночь, оставив только шаль, свёрнутую у колодца. Кузнеца Фёдора он назвал «Железо-в-пепле» – и тот умер, задохнувшись во сне, с руками, сжатыми на горле. Каждый, кого Петька называл, исчезал или умирал, а деревня пустела. Люди запирали двери, но шорох на чердаках не прекращался. Кто-то видел тени на опушке – маленькие, сгорбленные, с глазами, блестящими, как лесные лужи.
Марья пыталась спасти сына. Она ходила к Агафье, умоляя помочь. Старуха дала ей нож с рукоятью из рябины и сказала: «Уведи его в лес. Верни туда, откуда пришёл. Но не называй его Петькой. Имя притянет беду». Марья кивнула, но её сердце разрывалось. Она не могла поверить, что это не её сын. В ту ночь Петька снова встал у окна, его губы шевелились, а лес отвечал – низким гулом, как дыхание. Марья взяла его за руку, холодную и жёсткую, как ветка, и повела к опушке. «Пойдём, – шептала она, – пойдём домой». Он не сопротивлялся, но его глаза смотрели не на неё, а вглубь леса, где тени шевелились, как живые.
Они шли долго, пока сосны не сомкнулись над головой, гася свет луны. Петька остановился у старого дуба, чьи корни выпирали из земли, как кости. Он повернулся к Марье и сказал: «Ты – Пустота. Иди со мной». Его голос был не детским, а старым, как лес. Марья закричала, но нож выпал из её руки. Она побежала назад, спотыкаясь, чувствуя, как лес смотрит ей в спину. Когда она выбралась на опушку, Петьки рядом не было. Она вернулась в деревню одна, с глиной на подоле и пустотой в груди.
Деревня опустела за неделю. Дома стояли с открытыми дверями, на столах гнили недоеденные супы, в хлевах молчали коровы. Марья уехала в город, но не могла говорить – её голос пропал, как будто лес забрал его. На опушке, где начинался лес, по ночам слышался зов: «Ма-ма…» – тихий, скрипящий, как ветки. Иногда к нему присоединялся второй голос, тоньше, младше. Соседи из ближних деревень обходили Лозовое стороной, крестясь при виде опушки. А в лесу, говорят, видели тени – маленькие, сгорбленные, с глазами, как лужи, – и они всё ещё звали кого-то по имени.