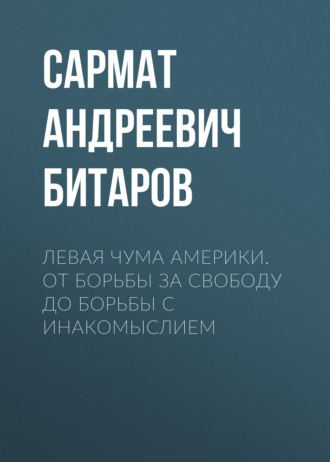
Полная версия
Левая чума Америки. От борьбы за свободу до борьбы с инакомыслием
Перезагрузка языка власти. При нём в политическом мейнстриме начали звучать такие выражения, как «white privilege», «microaggression», «diversity hiring», «implicit bias».
Появилась целая новая гвардия молодых прогрессивных интеллектуалов и политиков, вдохновленных не его делами, а его стилем – Алессандра Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Джамал Боуман и др.
Критики справедливо отмечали, что Обама часто выступал не как реформатор, а как пастор. Его культовое «Yes We Can» – это риторика мобилизации, за которой не всегда следовали действия. Он говорил языком новой Америки, но действовал в логике старого эстеблишмента. Однако его присутствие в Белом доме радикально изменило восприятие самого поля возможного.
Он доказал, что прогрессивный дискурс может стать культурной нормой, даже если политическая система по-прежнему находится под влиянием крупного капитала, лоббизма и институционального консерватизма. Этот разрыв между моральным символизмом и политическим реализмом стал впоследствии источником сильного когнитивного напряжения в американской демократии.
Сильные стороны
Слабые стороны
Легитимизация прогрессивной чувствительности
Отсутствие структурных реформ
Расширение тем идентичности в политике
Компромиссность с корпоративным истеблишментом
Рост активизма среди молодёжи
Рост разочарования у радикального крыла движения
Начало институциональной инклюзии
Консервативный реванш, приведший к Трампу в 2016
Эпоха Обамы была, по сути, временем надежды на обновление, но не временем его реализации. Она создала иллюзию прогресса, за которой прятались структурные противоречия: между глобализмом и национальной идентичностью, между мультикультурализмом и локальной бедностью, между «новыми» и «старыми» американцами.
Именно при Обаме начал формироваться идеологический ландшафт будущих политических баталий. На первый план вышли темы:
системного расизма;
языка ненависти;
инклюзивного образования;
трансгендерной репрезентации;
роли корпораций в социальной справедливости.
Всё это стало минным полем американской политики 2010-х годов, по которому в будущем пройдёт тяжёлая поступь Дональда Трампа. Но и успехи движения Black Lives Matter, и рост левого крыла Демпартии, и кризис белого среднего класса – все они начались именно тогда, в эпоху Обамы, когда прогрессивизм впервые посмотрел на страну с вершины власти.
РАЗДЕЛ II. ПРОГРЕССИВНЫЙ КРЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
История Демократической партии – это история метаморфоз. Когда-то она была партией тяжёлого труда, угольной пыли и профсоюзных собраний, сегодня – это политический флагман Google, Гарварда и Netflix. Этот переход не был мгновенным. Он развивался десятилетиями – болезненно, с конфликтами и отторжениями, но в итоге полностью переформатировал её политическую идентичность.
Когда-то Демпартия ассоциировалась с Фрэнклином Рузвельтом и «Новым курсом», Джоном Кеннеди и профсоюзной солидарностью, Линдоном Джонсоном и «Великой обществом». Это была партия экономического популизма, рассчитанного на работяг из Детройта, шахтёров из Западной Вирджинии и портовых грузчиков из Нью-Джерси.
Но в XXI веке партия радикально изменилась. Сегодня её бэкграунд – это университетские городки, цифровые гиганты Кремниевой долины, урбанизированные элиты, прогрессивная молодёжь и культурные институции, вроде Netflix, New York Times и университетов Лиги Плюща.
Главная причина – структурные изменения в экономике. С 1970-х годов началась деиндустриализация Америки. Производство переносилось в Мексику, Китай, Юго-Восточную Азию. Страны, выигрывающие от глобализации, вливали товары в США, где потребление оставалось, а рабочие места исчезали.
Крупные заводы в Мичигане, Огайо, Пенсильвании начали закрываться. Белый рабочий класс – ядро Демократической партии XX века – терял всё: стабильную работу, профсоюзы, пенсионную систему и, главное, уверенность в будущем. А партия, вместо того чтобы стать выразителем их боли, постепенно переключила внимание на другие группы, прежде всего – на городские и образовательные элиты.
Параллельно с упадком традиционного рабочего класса шёл бум высшего образования. Если в 1960-х только 10% американцев имели степень бакалавра, то к 2020 – уже более 35%. Это сформировало новый тип избирателя: образованный, урбанизированный, потребляющий медиа, ориентированный на ценности, а не только на доход.
Этот слой – преподаватели, аспиранты, ИТ-специалисты, студенты, научные сотрудники, креативный класс – оказался естественным союзником прогрессивной повестки: он с недоверием относился к религии, требовал признания разнообразия, интересовался климатом, гендером и правами меньшинств. Именно он стал новым «мотором» Демократической партии.
Третий фактор – альянс с новой буржуазией хай-тека. Кремниевая долина – Facebook, Google, Apple, Amazon – были воспитаны в университетской среде, и их ценностный код ближе к профессору социологии, чем к нефтяному магнату из Техаса.
Хотя эти корпорации – по своей сути олигополии, не менее хищные, чем банки Уолл-стрит, их пиар и внутренняя культура окрашены в либеральные и прогрессивные тона. Они финансируют инициативы по расовому разнообразию, платят за климатические проекты, продвигают квоты для женщин и ЛГБТ-сотрудников, поддерживают BLM, проводят DEI-обучения.
Это позволило Демпартии войти в симбиоз с новой элитой: она получает финансирование, контроль над цифровыми платформами, репутационную защиту, а взамен предлагает моральную легитимацию корпоративного прогрессивизма.
Ушли:
Белые рабочие из Индианы, Огайо, Висконсина.
Католические латиноамериканцы второго поколения.
Религиозные чернокожие в южных штатах.
Мужчины среднего возраста без высшего образования.
Пришли:
Студенты и аспиранты;
Молодые городские профессионалы;
ЛГБТ-сообщество и союзные им активисты;
Афроамериканские женщины;
Восточноазиатская урбанизированная молодёжь;
Прогрессивные белые из образованного среднего класса.
Это социологически другой электорат: не столько «пострадавшие», сколько «морально озабоченные»; не столько «требующие хлеба», сколько – уважения и признания различий.
Новая коалиция изменила не только политику – но и саму грамматику Демократической партии:
Раньше
Сейчас
«Jobs, jobs, jobs»
«Justice, equity, inclusion»
«Мы восстановим производство»
«Мы защитим идентичности»
«Средний класс – опора нации»
«Меньшинства – сердце прогресса»
«Америка – для всех»
«Америка – для всех, кого исключали»
Речь сместилась от универсального и материального – к партикулярному и моральному. Это не хорошо и не плохо – это факт. И он вызвал болезненный культурный конфликт внутри страны.
Однако у такого перехода есть обратная сторона:
Культурная изоляция. Новая элита, будь то профессор, стартапер или журналист, живёт в пузыре – географически, ментально, лексически. Они не понимают, как живёт страна «вне побережий», где людям важно не местоимение, а цена на бензин.
Языковой барьер с народом. Когда политика становится языком университетского семинара, значительная часть избирателей теряет к ней доступ – и интерес. Для многих она начинает звучать как моральное поучение.
Отчуждение от базовой экономики. Рабочие и мелкие предприниматели чувствуют: «Они больше не про нас. Они – про климат, расу и пол. А я – белый, христианин, без диплома – и теперь я не часть их Америки».
Превращение Демократической партии в партию кампусов и хай-тека стало триумфом прогрессивной чувствительности – и одновременно открыло фланг для мощной правой реакции. Ведь если один полюс забирает себе моральную повестку, другой обязательно отыграется на языке безопасности, патриотизма и традиции.
Таким образом, партия, рождённая в битвах за труд и солидарность, оказалась в 2020-х партией символов, университетов и программного кода. Она перестала быть народной – и этим самым дала шанс Трампу стать голосом заброшенного большинства.
Экономическая политика Демпартии при Обаме и особенно после него перестала быть чисто классической левой. Да, звучали предложения о росте минимальной заработной платы, доступном здравоохранении и помощи студентам, но сами риторические акценты сдвинулись.
Прогрессивная экономика больше не говорила языком классовой борьбы. Она говорила языком моральной ответственности:
«Экономика должна работать для всех, а не только для богатых» – звучит не как классовая мобилизация, а как этический упрёк.
Миллениалы и зумеры – основной актив Демпартии – не столько требуют перераспределения, сколько справедливости, компенсаций, «перепрошивки» системы.
Внутри партии при этом возник раскол:
Либеральный центр
Прогрессивное крыло
Джо Байден, Пит Буттиджич, Хиллари Клинтон
Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, AOC
Эволюционные реформы
Структурная перестройка
Союз с корпорациями
Антикорпоративная повестка
Страх перед социализмом
Открытое использование слова "socialism"
Пример: Берни Сандерс в 2016 и 2020 годах говорил не об «инклюзии», а о системной несправедливости, вызванной концентрацией капитала. Однако партийный истеблишмент дважды не допустил его к номинации. Тем не менее его идеи (медицина для всех, бесплатное образование, налоги для миллиардеров) стали частью нового языка партии – даже если не политической программы.
Парадокс: партия усилила прогрессивную риторику, но осталась институционально зависимой от крупных доноров и корпораций, особенно в сфере технологий и финансов.
Если политическая борьба – это борьба за власть, то культурная борьба – это борьба за то, что считать нормальным, справедливым, допустимым и прогрессивным. Демократическая партия США в XXI веке сделала шаг за рамки традиционной политики. Она перешла в сферу культуры – и не просто как участник, а как архитектор нового лексикона эпохи.
Это не было спонтанным или формальным процессом. Культурный крен Демпартии стал результатом медленного, но последовательного движения от материальных интересов к моральным кодам, от классовых конфликтов к идентичностям, от экономической справедливости – к лингвистической и символической.
Чтобы объяснить, что такое культурный крен, полезно представить себе, как меняется сам язык политики. В 1950-х демократ мог сказать: «Нам нужно сократить безработицу». В 2020-х демократ говорит: «Нам нужно деколонизировать университетский канон, устранить микроагрессии и ввести гендерно-нейтральную терминологию в правовых текстах».
Это не просто другая риторика. Это – новое понимание цели политики. Если раньше целью считалось перераспределение материальных благ и уравнивание шансов, то теперь – создание инклюзивного, неоскорбляющего, справедливого языка и символического пространства.
Новая прогрессивная культура исходит из постулатa: язык не просто описывает реальность – он её формирует. А значит, контроль над языком означает контроль над мышлением.
Примеры:
«Мужчина и женщина» заменяются на «люди, способные рожать» и «персоны, идентифицирующие себя как мужчины».
Слова типа «нелегальный иммигрант» считаются стигматизирующими и заменяются на «неимеющий документов».
Вместо «тучный» говорят «персона с большим телом» (body-positive терминология).
В учебных курсах всё чаще используются формулировки «исследование привилегий», «колониальное мышление», «структурное угнетение».
Язык становится полем моральной чистоты, и любое отклонение от него трактуется как признак «реакционности» или «враждебной среды».
В эпоху индустриального общества ключевой идентичностью считался класс: рабочий, буржуа, крестьянин. В постиндустриальном – это раса, гендер, сексуальность, этничность, способность (ability), психическое здоровье и т. д.
Чем больше «пересечений» идентичностей (intersections), тем выше моральный капитал – это суть теории интерсекциональности. В результате происходит:
переосмысление истории через призму «угнетённых»;
требование квот в кино, корпорациях, политике;
замена универсальных критериев (достижения, опыт) на репрезентативные (кто ты, откуда, с каким прошлым).
В политической практике это означает: успех воспринимается как результат привилегии, а не труда, а критика представителя меньшинства – как акт угнетения.
Голливуд, Netflix, издательства, медиа, музыкальная индустрия – всё это давно стало реле трансляции прогрессивной нормы. Демократическая партия не дирижирует этим оркестром, но она – его голос в политике.
В каждой второй номинации на премии – женщина-режиссёр, актёр небинарного гендера или картина о травме меньшинства.
Детские книги массово переписываются, чтобы убрать «гендерные стереотипы».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



