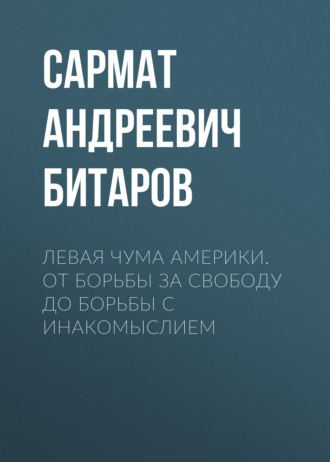
Полная версия
Левая чума Америки. От борьбы за свободу до борьбы с инакомыслием
Именно в этой борьбе вырабатывается ключевая черта будущего прогрессивизма – моральное превосходство над институтами, апелляция не к законам и партиям, а к совести, к человеческому достоинству. Бунт становится не столько политическим, сколько экзистенциальным актом – выражением внутренней истины против лжи внешнего порядка.
Одним из наиболее радикальных следствий культурной революции стала смена парадигмы феминизма. Если первая волна боролась за формальные права (избирательное, трудовое), то феминизм второй волны (1960–70-е гг.) начал разрушать само представление о женственности как социальном конструкте. Манифесты Бетти Фридан, журнал Ms., организация NOW (National Organization for Women) и кампании за право на аборт стали частью общего леворадикального брожения, в котором гендер рассматривался не как биологический факт, а как политическая структура угнетения.
Сексуальная революция (контрацепция, легализация абортов, декриминализация гомосексуальности, критика института брака) не была побочным эффектом 1960-х. Она была центром культурного сдвига, напрямую сопряжённым с левой повесткой. Именно здесь возникает знаменитый лозунг «The personal is political» – личное есть политическое. Прогрессивизм перестаёт быть сугубо политическим движением – он вторгается в сферу интимного, идентичности, быта, языка, эмоций.
Культурная революция не ограничивалась университетами и митингами. В музыку, кино, театр, литературу проникает новая, антибуржуазная энергия. Рок-фестивали становятся политическими актами. Песни Боба Дилана, Джоан Баэз, The Doors, Jefferson Airplane – это не просто музыка, а форма гражданского выражения, протест против «Америки корпораций».
Появляется битничество, хиппи, психоделическая эстетика, утопии любви, свободы, отказа от собственности. Всё это отрицает основополагающие нормы американской жизни: протестантскую трудовую этику, патриотизм, институциональное доверие, гетеронорму, культ семьи. Взамен – поиск аутентичности, опыта, трансового освобождения, деконструкции «нормальности».
Контркультура была не второстепенной, а мягкой силой прогрессивной революции. Через неё происходила популяризация левых идей, а также символическая делегитимация традиционного порядка, особенно среди молодёжи. Отсюда – переход к культурной гегемонии в будущие десятилетия, даже в условиях политических поражений.
Параллельно с культурными протестами происходит и интеллектуальный сдвиг, задающий основу для будущего радикального левого мышления. Особенно важен вклад Герберта Маркузе, представителя Франкфуртской школы, автора «Эроса и цивилизации» и «Одномерного человека».
Маркузе утверждал, что либеральное общество создало иллюзию свободы, в которой человек – не субъект, а потребитель, подчинённый тотальной системе подавления. Именно сексуальность, творчество и отказ от репрессий могут освободить личность. Маркузе стал интеллектуальным кумиром Новых левых, связав радикальную критику капитализма с вопросами культуры, тела, желания.
Эти идеи были подхвачены и развиты в 1970–80-е годы в рамках постструктурализма и постмодерна – Фуко, Деррида, Лакан, Делёз, Бодрийяр. Они выработали новый язык критики власти, в котором угнетение – это не просто экономика, а язык, знание, нормы, представления. Это было второе дыхание Новых левых, уже на философском уровне.
К 1970-м годам культурная революция сходит на нет. Общество устало от беспорядков, движений становится слишком много, они фрагментируются. Власть захватывают консерваторы – сначала Никсон, потом Рейган. Начинается откат, неолиберализм, реванш корпоративного мышления. Но – и это важно – культурная революция выиграла бой за умы, если не за институты.
Левые проиграли в политике, но выиграли в культуре. Их идеи проникли в кампусы, медиа, литературу, кино, язык. К 1990-м годам они стали нормой в академии и в сознании интеллигенции несмотря на то, что у власти формально были правые.
Это – парадокс, с которого начинается современный прогрессивизм: политическое меньшинство, обладающее культурной гегемонией. Именно отсюда родится феномен BLM, cancel culture, diversity politics, студенческих протестов за safe space – все они являются интеллектуальными потомками Новых левых и 1960-х годов.
РАЗДЕЛ II. ОТ МАРКУЗЕ ДО ПОСТМОДЕРНА И КРИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Если культурная революция 1960-х была практической бурей, то ее интеллектуальное небо затянули теоретические молнии, разряды которых до сих пор определяют ландшафт прогрессивной мысли. Для понимания современного левого прогрессивизма важно не только рассматривать уличные протесты или политические инициативы, но и изучить те интеллектуальные парадигмы, которые сформировали его мировоззренческий фундамент. Эти парадигмы зародились в трудах философов и социологов середины XX века – от Герберта Маркузе и Жана-Поля Сартра до постструктуралистов, критических теоретиков и гендерных мыслителей.
Сегодняшние темы идентичности, власти, языка, угнетения и деконструкции нормы имеют философские корни, без понимания которых невозможно осмыслить современный американский прогрессивизм. Это не просто политика, это онтология – взгляд на человека, общество и смысл.
Герберт Маркузе, представитель Франкфуртской школы, стал, пожалуй, главным философом «новых левых», интеллектуальным мостом между марксизмом и контркультурой. Его книга "Одномерный человек" (1964) стала манифестом разочарования в либерально-капиталистическом обществе. Маркузе утверждал, что современный индустриальный капитализм создаёт не просто неравенство, а однородность мышления, в которой вся критика подавляется через встроенные механизмы потребления и комфорта.
В системе, по Маркузе, человек больше не революционер, а потребитель, чьи желания заранее сформированы системой. Даже мнимо «свободные» институты (медиа, образование, право) работают на стабилизацию угнетения. Поэтому освобождение не может быть достигнуто реформами – оно должно затронуть сам способ жизни, язык, желания.
Особую роль в его философии играли молодёжь, маргиналы и сексуальные меньшинства, как группы, еще не полностью интегрированные в подавляющую систему. В отличие от ортодоксального марксизма, который уповал на рабочий класс, Маркузе видел в них носителей революционного потенциала.
Таким образом, основополагающий тезис прогрессивизма – «угнетение встроено в нормы» – уходит корнями именно в маркузианскую логику: угнетение не обязательно физическое или экономическое, оно может быть культурным, символическим, бессознательным.
Во Франции, параллельно с американским протестом, оформлялся интеллектуальный бунт против просвещенческого разума. Философы Жак Деррида, Мишель Фуко, Жиль Делёз, Жан Бодрийяр отвергали представление о единой истине, универсальном субъекте и рациональности как нейтральной категории. Это течение получило название постструктурализм, а позднее – постмодерн.
Фуко утверждал, что власть не существует где-то «снаружи» – она встроена в знание, язык, науку, медицину, право. Не бывает «объективной» истины – есть режимы истины, поддерживающие определённый порядок. Его исследования тюрем, больниц, сексуальности и безумия показали, как гуманистические институты используются для дисциплинирования тел и умов.
Деррида пошёл дальше, предложив идею деконструкции – аналитической стратегии, которая показывает, как любая система мышления полна противоречий, исключений, подавленных альтернатив. Любой текст, любая норма, любое высказывание – уязвимы, если их тщательно проанализировать. Эти идеи стали философским фундаментом критики идентичности, языка, нормальности, на которых базируются современные феминистские, квир- и антирасистские теории.
Таким образом, современный прогрессивизм черпает силу не в утопии «правильного» общества, как марксизм, а в перманентном разоблачении структур, которые считают себя «естественными» и «нормальными».
Параллельно с постструктуралистским сдвигом развивается и эволюция критической теории – особенно в американских университетах. Если ранняя Франкфуртская школа сосредотачивалась на классе и экономике, то её американские наследники (в 1980–2000-х годах) перефокусировались на расе, гендере, сексуальности, культуре, языке и психологии.
Это стало частью новой волны радикального академизма, оформившегося в таких направлениях как:
Критическая расовая теория (Critical Race Theory) – идея, что расизм – это не просто предрассудок отдельных людей, а встроенная в систему норма, поддерживаемая институтами права, образования и политики.
Феминистская теория третьей волны – акцент на пересечении (intersectionality), т.е. пересечении различных форм угнетения: женщина, небелая, бедная – сталкивается с тройным барьером.
Квир-теория – утверждение, что сексуальность и гендер – не биологически обусловлены, а являются социальными конструкциями, которые можно размывать, переформулировать, отвергать.
Все эти теории выросли на фундаменте постструктуралистской философии и маркузианской критики нормальности. Их объединяет общий тезис: структуры власти невидимы, но всепроникающи, и поэтому борьба должна вестись не только за реформы, но и за контроль над языком, представлениями, символами.
К 1990-м годам американские университеты – особенно гуманитарные факультеты – становятся инкубаторами и катализаторами нового левого мышления. Курсы по gender studies, ethnic studies, queer theory входят в мейнстрим. Формируется новый язык академической легитимности, в котором прогрессивные теории преподносятся как не просто политическая альтернатива, а единственно морально допустимая форма знания.
Этот академический прогрессивизм часто отвергает либеральный плюрализм как форму скрытого угнетения: «выслушивать обе стороны» – значит ставить на одну доску истину и насилие, доминирующего и угнетённого. Отсюда – современные кампании против платформирования «опасных» спикеров, за создание safe spaces, за контроль языка (например, использование местоимений по желанию субъекта).
Постепенно формируется новая интеллектуальная норма: мир делится не на правых и левых, а на угнетающих и угнетённых, и любая социальная практика должна быть переосмыслена сквозь эту призму.
Интеллектуальные истоки прогрессивизма дали ему уникальную особенность: он не просто политическая идеология, а проект по переустройству самого представления о человеке, справедливости, знании и реальности. Это делает его особенно стойким к критике: оспорить прогрессивизм – значит, с его точки зрения, оспорить саму мораль, саму человечность.
В отличие от либерализма, который апеллирует к компромиссу, или от консерватизма, который защищает традиции, прогрессивизм – это идеология разоблачения, направленная на вскрытие и подрыв глубинных основ общества. В этом его сила и его уязвимость.
Став интеллектуально доминирующим в университетах, он начал распространяться через журналистику, искусство, кино, активизм, школы. Его победа не была политической, а культурной. Он стал языком новой элиты, особенно городской и образованной.
РАЗДЕЛ III. ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ «ИНКЛЮЗИВНЫХ» ДВИЖЕНИЙ
Если гражданские движения середины XX века боролись за равенство перед законом, а новые левые 1960-х – за структурную трансформацию общества, то начиная с 1970-х годов в американском политическом ландшафте появляется третий тип движения. Его цель – инклюзия: не просто равные права, не просто разрушение репрессивных структур, но признание специфической идентичности как легитимной и защищённой.
Именно в этот период формируется то, что в XXI веке станет ядром прогрессивной политики: концепция identity politics, то есть политики, выстраиваемой не вокруг универсальных категорий (класс, нация, гражданство), а вокруг групповой принадлежности – по признаку расы, пола, сексуальной ориентации, этничности, инвалидности, гендера и т.д. Это движение стремилось не к равенству по модели «мы такие же», а к институциональному признанию различий как ценных и нуждающихся в защите.
Постепенно в общественном сознании утверждается мысль: не все формы угнетения одинаково видимы, и не все субъекты имеют равный доступ к универсальным правам. Например, закон может быть формально «слеп» к расе, полу или сексуальности, но общественные и культурные структуры всё равно воспроизводят неравенство.
Прогрессивная мысль начала утверждать: справедливость – это не только отсутствие дискриминации, но и признание уникального опыта и различий. Именно в этот момент и появляется концепция identity politics – политической практики, основанной на принадлежности к угнетаемой социальной группе, а не на универсальном человеческом статусе.
Это мышление можно охарактеризовать тремя сдвигами:
От универсального к партикулярному: универсальность подвергается критике как инструмент навязывания одной нормы (западной, белой, мужской) всем остальным.
От равенства к признанию: если раньше требовали равного обращения, то теперь – активного признания различий как политической и моральной ценности.
От прав к голосу: ключевым становится не просто доступ к институтам, а право говорить от имени собственного опыта – говорить о себе, за себя, своим языком.
Эта парадигма особенно заметна в речи, поведении и аргументации новых социальных движений. Например, лозунг «Black Lives Matter» не говорит «All Lives Matter» именно потому, что универсальные формулы не улавливают специфического опыта чёрной боли, чёрного страха, чёрной уязвимости. Точно так же феминистки третьей волны заявляют: нельзя говорить просто «о женщинах», не учитывая рациональные, классовые и культурные различия между ними.
Таким образом, индивидуальный или коллективный опыт становится политическим ресурсом. Его невозможно оспорить – он «принадлежит» субъекту. Поэтому кто говорит – становится важнее, чем что он говорит. Это ведёт к новой форме аргументации: «как чернокожая женщина я…», «как небинарный человек я…», – где легитимность формируется через принадлежность к идентичности, а не через универсальное рассуждение.
Это радикально меняет условия политической дискуссии. Если либерализм строится на предположении, что истины можно достичь через разумный спор, то identity politics часто отрицает саму возможность нейтрального спора, поскольку собеседники не равны в своих позициях: одни говорят «с позиции привилегии», другие – с позиции боли.
Следствием этого становится расширение категории угнетённости. Если в XIX–XX веках под угнетением понимали лишение свободы, прав или экономических возможностей, то в новой парадигме к угнетению добавляются:
невидимость (например, отсутствие репрезентации в культуре);
стереотипизация (навязывание образов);
языковое подавление (неправильное использование местоимений, deadnaming);
институциональное доминирование (набор норм, в которых одни чувствуют себя «как дома», а другие – «в гостях»).
В итоге борьба за справедливость становится борьбой с невидимыми структурами повседневности, и требует не только реформ – но перепрошивки всей культурной матрицы.
Важно подчеркнуть: эта смена оптики переносит борьбу из сферы прав – в сферу культуры. Если движения 1960-х требовали изменений в Конституции, судебной системе, законодательстве, то identity politics требует изменений в:
языке (включая введение новых местоимений);
программах образования (переосмысление «евроцентричных» канонов);
медиаповестке (позитивная репрезентация);
корпорациях (обязательные DEI-тренинги и квоты);
интерпретации истории (деколонизация, компенсации, ревизия национальных героев).
Это означает, что сама борьба за инклюзию перестаёт быть только юридической – и становится экзистенциальной и символической. Отсюда напряжённость в современной Америке: многие правые считают это подменой либерального консенсуса новой, радикальной системой координат, в которой классическое равенство сменилось моральной и культурной иерархией уязвимостей.
Становление инклюзивных движений сопровождалось сменой риторики. Если старые протесты говорили языком закона, то новые – языком идентичности и признания. Возникает новый словарь:
«микроагрессия»,
«травма»,
«безопасное пространство (safe space)»,
«репрезентация»,
«социальная невидимость»,
«проверка привилегий (privilege check)».
Цель этих понятий – не апелляция к универсальному, а выявление структурных преимуществ одних групп и уязвимости других. Таким образом, появляется иерархия уязвимостей, где политическая легитимность определяется опытом угнетения. Чем более «интерсекционален» субъект – тем выше его моральный капитал в системе прогрессивной риторики.
На первый план выходит борьба не столько за материальные ресурсы, сколько за символическое признание. Репрезентация в кино, в школах, на обложках журналов становится не менее важной, чем доступ к социальным программам. Появляется идея институционального разнообразия (diversity), как моральной обязанности корпораций, университетов, СМИ.
Всё это логично ведёт к смене роли государства. Если в либеральной традиции государство должно быть нейтральным арбитром, то в инклюзивной парадигме оно должно быть активным агентом корректировки исторических несправедливостей. Это выражается в идеях:
позитивной дискриминации (affirmative action);
установления квот по расе, полу, ориентации;
защиты меньшинств от языка вражды (hate speech laws);
переобучения сотрудников корпораций и госорганов (DEI-практики – Diversity, Equity, Inclusion).
Так формируется то, что критики называют инклюзивной бюрократией – сеть институтов, следящих за тем, чтобы различия были признаны, защищены, продемонстрированы.
Парадокс этих движений в том, что они добились значительных успехов – и одновременно стали частью нового статус-кво, что породило новую волну критики как слева, так и справа.
Слева – часть радикалов обвиняла инклюзивные движения в потере революционного духа, в том, что они превратили борьбу в язык грантов, отчётов и симуляции разнообразия.
Справа – началось нарастание сопротивления: от критики affirmative action до борьбы с критической расовой теорией в школах, от кампаний против «гендерной идеологии» до отказа от финансирования DEI-проектов.
Тем не менее, идея инклюзии закрепилась в западном политическом и культурном поле. С начала XXI века она стала мейнстримом, особенно в Демократической партии США, в медиа, в академии. Отсюда – важное противоречие: инклюзивная политика остаётся якобы «протестной» и «прогрессивной», даже когда она институционально доминирует.
Появление инклюзивных движений завершило трансформацию прогрессивного мышления: от борьбы за права индивида – к борьбе за признание коллективной идентичности. От борьбы с конкретной дискриминацией – к созданию новой политико-моральной инфраструктуры, в которой разность – не только факт, но и ценность, требующая институционального уважения.
Эти движения заложили основу для будущих феноменов вроде Black Lives Matter, MeToo, трансгендерного активизма, студенческих протестов за моральную «безопасность» – всё это прямые потомки инклюзивной парадигмы, родившейся в 1970–80-е годы.
ГЛАВА 2. ПРОГРЕССИВИЗМ У ВЛАСТИ
РАЗДЕЛ I. ОБАМА КАК СИМВОЛ ИДЕОЛОГИИ.
На исходе бурного начала XXI века, после терактов 11 сентября, войны в Ираке и экономического кризиса, Америка подошла к моменту культурного поворота, который на Западе многие восприняли как историческое искупление. Победа Барака Обамы в 2008 году стала не просто политическим событием. Это был наративный переворот, в котором сплелись темы прогресса, инклюзии, расового примирения и новой, «мягкой» силы.
Обама был харизматичен, образован, интеллигентен, мультикультурен. Он был сыном кенийца и белой американки, выросшим в Гонолулу и частично в Индонезии, преподавал конституционное право и читал Ролза, Мартина Лютера Кинга и Фукуяму. Его риторика была универсалистской, но в ней постоянно звучала интонация моральной чуткости, типичная для нового прогрессивного мышления.
Символически его избрание означало:
победу инклюзивной Америки над расистским наследием;
подъем нового поколения, ориентированного на мультикультурализм и толерантность;
приход постидейного политика, говорящего не об экономике или классе, а о «надежде», «единстве» и «ценности каждого человека».
Он стал олицетворением прогрессивной Америки, даже если его политика не всегда ей соответствовала.
Парадокс Обамы – в рассогласовании между его символической фигурой и реальными политическими решениями. Несмотря на то что его приход во власть породил огромные надежды в леволиберальных кругах, он действовал осторожно, прагматично и часто – умеренно. Его администрация:
спасла банки, а не семьи, пострадавшие от ипотечного кризиса;
отказалась от радикальных реформ в сфере здравоохранения, остановившись на компромиссной Obamacare;
продолжила практику дроновых ударов и программ по слежке;
не провела обещанную реформу иммиграционного законодательства;
практически не затронула структурные проблемы бедности, расового неравенства, полицейского насилия.
Прогрессивные интеллектуалы начали разочаровываться уже в первые годы. Журнал The Nation писал: «Обама говорит языком движения, но действует языком института». Его либеральная оболочка прикрывала собой технократическое ядро, унаследованное от позднего клинтонизма.
Но всё же эпоха Обамы оказала огромное влияние не на экономику, а на культуру и язык. Его стиль, риторика, выбор слов, символические жесты – всё это способствовало нормализации прогрессивной чувствительности в американском общественном поле. Вот как это проявилось:
Репрезентация. Фигура чернокожего президента легитимировала активную повестку о разнообразии – в Голливуде, в СМИ, в корпорациях, в университетах
Легитимация новых тем. Обама впервые публично говорил о трансгендерных людях, о системном расизме, об исторических травмах, об угрозе изменения климата – не как о маргинальных темах, а как об общенациональных.
Поддержка инклюзивных движений. Он впервые выступил в поддержку однополых браков (второй срок), усилил юридическую защиту ЛГБТ+, инициировал реформы Title IX в университетах, касающиеся сексуального насилия и гендерной дискриминации.



