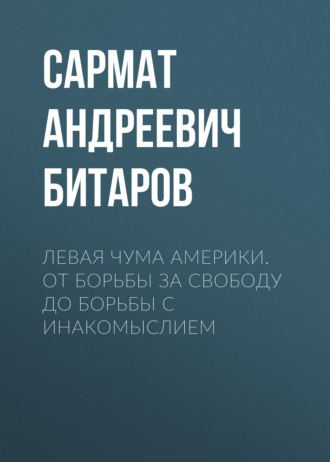
Полная версия
Левая чума Америки. От борьбы за свободу до борьбы с инакомыслием

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА
Эта книга – результат долгих размышлений и наблюдений. Меня давно интересует парадокс современного американского прогрессивизма: как получилось, что идеология, воспринимаемая ещё недавно как радикальная и маргинальная, сегодня формирует общественные нормы, захватывает дискуссионное поле и навязывает культурную повестку даже в тех странах, где она не побеждает политически?
Я не ставлю перед собой задачу обличать или высмеивать. Моя цель – понять. Понять, почему прогрессивизм стал настолько привлекательным для университетов, медиа, искусства, почему в него охотно вступают молодые и образованные, и почему при всём этом – он заходит в тупик. Понять, как прогрессивизм смог подменить собой традиционные левые движения, и почему в ответ на него пробуждаются силы, ещё более правые, чем прежде.
Я пишу эту книгу с правой, но рациональной позиции. Я не кричу «всё пропало», не мечтаю о реакции, не сыплю ярлыками. Я – наблюдатель, политолог, исследователь, который хочет представить целостную картину и объяснить, как мы оказались там, где находимся сегодня. И – возможно – куда движемся дальше.
ВВЕДЕНИЕ
Левый прогрессивизм1 – это не просто совокупность политических взглядов. Это целостная мировоззренческая система, затрагивающая все аспекты современной жизни: от государственного устройства до личных моральных убеждений, от академической среды до языка повседневного общения. Он вторгся в политику, культуру, экономику, образовательные институты и даже частную сферу, выдвинув лозунг глубокой трансформации общества. За последние десятилетия, особенно с начала XXI века, прогрессивная повестка в Соединённых Штатах Америки не просто окрепла – она стала господствующей культурной силой.
Тем не менее, этот путь к доминированию был отнюдь не линейным, и, что важно, на момент написания этой книги прогрессивизм переживает очевидный идеологический и стратегический кризис. В то время как одни называют это «естественным этапом переосмысления», другие, в том числе и я, видят в этом начало конца. Мы становимся свидетелями наступления правого реванша, восстания маргинализированных ранее голосов, недовольных новыми табу и переизбытком идеологических догм.
Что же произошло? Как получилось, что движения, некогда воспринимавшиеся как смелые, гуманистические и освобождающие, стали восприниматься частью ригидного нового догматизма? Почему значительная часть общества, включая тех, кто ещё недавно симпатизировал либеральной мысли, вдруг отшатнулась от её современных форм? И почему, несмотря на всё это, культурное влияние прогрессивной идеологии остаётся почти незыблемым, даже в периоды политического господства её оппонентов?
Эта книга – попытка разобраться. Попытка не обрушиться на объект критики с предсказуемыми обвинениями, но всмотреться в его суть: в мотивации, логическую структуру, социальные источники и исторические причины появления. Прогрессивизм – это не аномалия и не случайность. Это ответ. Ответ на противоречия XX века, на борьбу за равенство, на жестокости иерархий, на экономические неравенства, на расизм и патриархальные структуры. Он возник там, где существовала реальная социальная боль – и потому его нельзя отмахнуть простым махом руки. Но, как это часто бывает, движения, рождённые в борьбе за освобождение, могут превратиться в новые формы контроля, морального принуждения и интеллектуального однообразия.
Чтобы понять современный прогрессивизм, нужно обратиться к его истокам: к движениям шестидесятых годов, к культурной революции, к университетской философии конца XX века. Нужно понять, как на рубеже веков произошёл переход от старого либерализма, сосредоточенного на свободе личности и правах, к новому прогрессивизму, строящемуся на категориях привилегий, угнетения, цензуры несогласия и исторической обязательной для всех ответственности перед ущемлёнными ранее группами. Особое внимание в этом процессе следует уделить администрации Барака Обамы, при которой левые идеи получили государственное признание и политическое влияние, а также периоду после него – с его подъемами и падениями, надеждами и конфликтами.
Мы поговорим и о том, как прогрессивизм экспортировался в Европу, но не стал там доминирующим политическим порядком, несмотря на культурную близость. Почему в Европе он остался уделом интеллектуалов, а в Америке стал массовым кодексом поведения порядочных граждан. Почему американский прогрессивизм породил столь мощные протестные движения – от Black Lives Matter до транс-активизма, – и почему, несмотря на свою массовость и внимание медиа, они часто оказывались неэффективны в институциональной перспективе.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

