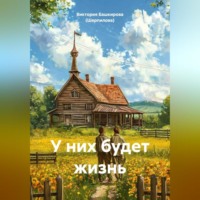Полная версия
У них будет жизнь

Виктория Башкирова (Шерпилова)
У них будет жизнь
Пролог
Вот он, праздник! Наконец, дождались, дожили! И ничего важнее нет! Вот оно – потом, настало, наконец! Праздники никогда не будут такими, как раньше…
Летний жаркий закат очень медленно опускался на село алым занавесом. Свадьба гуляла, гудела, пела и танцевала. Свадьба, которую так ждали, первая после военных событий. Духота летнего августовского дня не отступала. Уже кругом алели всполохи рябиновых гроздей, где-то даже появлялись жёлтые листья на деревьях, закаты становились прохладными, не такими поздними, а дни были жаркие, сухие, без единого облачка на небе. Солнце падало все ниже за фруктовые сады, а воздух не остывал, наваливался тяжелым грузом, наливался жаром, словно в бане. Это такая особенная духота, предвещающая бурю, ливень, возможно, даже грозу. Ближе к восьми вечера прогнозы оправдались: налетел сильный штормовой ветер, небо резко заволокло сине-чёрными тучами, а потом раздался сильный, устрашающий гром и блеснула яркая молния, словно лезвием разрезавшая эту темную ткань туч, затянувшую все небо над селом. И полил сильный теплый дождь, какой бывает только летом. Казалось, что это не капли, а струи соединяют небо с землёй, подобно каким-то необъяснимым нитям, нитям жизни.
Все закричали, засуетились, забегали, спешно спасая угощения и скатерти со столов, занося мебель в дом. Бегали, прятались, вытирали воду, бежавшую сплошным потоком по лицу. И только они, молодожены, стояли под этим дождём, вымокшие, но такие счастливые. Они танцевали, Настя положила голову на плечо Димы, закрыла глаза, а он обнял её и просто любовался. Любовался он всем: молодой женой, родным селом, этим летом и даже ливнем. Он ловил каждую секунду счастья, зная, что это самое важное. Кто-то кричал им:
– Простудитесь, уходите в дом!!
Но они не слышали это, как и их родители, спрятавшиеся под козырьком дома. Они просто смотрели на детей, понимая, что всё остальное так неважно! Только здесь и сейчас, только жизнь. Родители смотрели, любовались, благодарили Бога за этот праздник, до которого было столько неспокойных будней. То ли дождевая вода текла по их лицам, то ли слёзы. Августовский ливень это тщательно спрятал, как нынешний праздник спрятал будни. А их было много, и они были очень непростые. Но главное жизнь – и ничего важнее нет. Тогда – оно уже было, потом будет потом, то «потом» которого мы так ждали – наступило. И даже не верится, что оно уже стало «теперь». И внезапно приходит понимание, что вся наша жизнь это будни и праздники, тогда и потом, а где-то между – сейчас – самое дорогое.
ЧАСТЬ 1
«ТОГДА»
Глава 1. Богом забытые места
Есть в мире Богом забытые места, где много лет не ступала нога человека, дремлют теперь уже вечным сном заколоченные дома, разрушенные цеха предприятий, по вечерам не включается свет ни в окнах, ни на улицах. И с ними всё понятно: когда-то здесь кипела жизнь, бегали дети, шумела молодёжь, игрались свадьбы, работал цех, или даже завод, возможно, все трудились в колхозе. Но потом все поменялось: власть, строй, экономика, да просто времена, и всё…остановилось предприятие – и жизнь вместе с ним. Молодёжь стала уезжать, старики умирать, дети забирать своих родителей в лучшие места, зачастую в города. А потом и вовсе умерли последние жители…и всё. Не стало на карте ещё одного очага жизни, остановила судьба ход своих часов.
Но вот есть такие уникальные деревни, где вроде бы уже и делать нечего, и работы почти нет, и магазин, дай Бог, один, а то и вовсе нет. Но жизнь теплится и продолжается. И, как правило, секрет тут не в экономике, или политике, а в человеке. Это необъяснимая русская душа – любящая свои родные края. Простая и открытая, такая большая и в то же время беззащитная. Как правило, это обычный человек. Не великий политик, не знаменитый инвестор, а самый простой русский человек. В нашем случае ею явилась Надежда Анатольевна Кривцова; большую долю жизни проработавшая учителем русского языка, она, как большинство её ровесниц, вышла когда-то замуж и родила ребёнка, обустроив очень тёплый и уютный очаг.
Тогда, в беззаботные, хотя уже и перестроечные 80-е годы они – современники тех лет, тогдашняя молодёжь, создавали семьи, выбирали профессии, обзаводились детьми, не думая, что ждёт их завтра. Нет, они, конечно, думали о своем будущем, ответственно относились к жизненным шагам, мечтали, представляли, строили планы. Но делали это с уверенностью в завтрашнем дне. Жизнь шла размерено, спокойно и понятно на протяжении многих десятилетий. Кто-то скажет, что это скучно, как в Госплане – все на 20 лет вперёд ясно, но для большинства простых людей эта стабильность была залогом счастья, а другого сценария жизни просто не представлялось. Из поколения в поколение люди здесь, в селе, рождались, рано познавали, что такое труд на земле, такой непростой и в то же время такой важный. Шли в сельскую школу, где восемь или десять лет, от осени к лету, от первого звонка на урок до выпускного вечера, грызли гранит науки, потом одни ехали учиться в город или другую провинцию, другие сразу работали в колхозе, иные трудились на местных предприятиях. Игрались непышные, традиционные свадьбы с длинным столом в сельском дворе, частушками под гармонь, шумными выкупами невест, радушными застольями и неповторимыми русскими душевными песнями до самой зари. Рождались дети, нет, не как сейчас, когда для села это событие практически в масштабе истории, а постоянно, массово, обыкновенно. Шумела жизнь в детском саду, библиотеке, Доме культуры или клубе. Дружные застолья сменяли друг друга, с плясками и песнями, домашними угощениями и добрыми, уютными разговорами, нередко до утра, до первых петухов и тёплого летнего рассвета. И, конечно, труды – труды крепкие, настоящие, утомительные, труды, которые, как известно, любит Бог! У кого-то на земле, у кого-то в цеху, у кого-то во врачевании людей, а у кого-то в более тонком деле – вытачивании и огранке человеческих душ. Секреты этого ремесла знают только учителя, хранители библиотек и Домов культуры.
Времена года сменяли друг друга, даря неповторимую, настоящую жизнь, которая может быть только здесь, на русской родной земле: весной цвели сады, покрываясь белым облаком дурмана лепестков; летом вместе с лёгким утренним ветерком тянулся неповторимый, насыщенный аромат влажного чернозёма с ухоженных, сплошь засаженных золотистой пшеницей полей. Это запах щедрой, плодородной земли, пропитанной росой, напоённой этой природной, чистейшей влагой. А после дождя над всей деревней опускалась невесомая туманная дымка, окутывая собой крыши домов, печные трубы, окна чердаков. Запах у этой дымки был тоже особенный, ни с чем не сравнимый. Запах дождевой летней влаги, который не придумывали парфюмеры, не источали цветы или плоды какого-то дерева. Запах дождя с примесью омытой им же травы, мокрой земли и необыкновенной свежести. Из-под самых небес неслись крики птиц, издалека глухо слышались поездные гудки и стук колес.
Осенью воздух становился прозрачнее, чище, прохладнее, деревья наряжались с яркие уборы, а в каждом доме, начиная ещё с середины лета, кипела работа по заготовке урожая. Мариновались овощи, делались в зиму консервированные салаты, варенье, конечно же, солились грибы! А потом наступали уютные, тягучие, окутанные теплом поздней осени вечера. Вечера, пропитанные ароматом поздних яблок и чая, вечера, когда нередко за тёплыми пирогами собирались не только семьёй, но и кругом шире: друзья, соседи, родня. Полные душевных разговоров, тепла, аромата затопленной бани, спокойные, пришедшие на смену трудовой поре. Вечера, когда над селом опускались ранние непроглядно-тёмные вечера, затянутые покровом серых, низких туч, нередко дождливые и ветреные. Вечера, когда так рано вспыхивал теплый свет в окнах всех домов, которых тогда было больше сотни. Они горели, подобно маякам, а за каждым окном текла своя жизнь, такая увлекательная, такая неповторимая!
В это осеннее время мало кто выходил за пределы двора и даже дома без острой необходимости, все старались быть в тёплых, натопленных домах, где пахло горящими дровами, растопленной печью, домашней едой. Люди прятались в этих уютных убежищах от холодного и мелкого дождя, осеннего ветра, ранней темноты, ведь не зря говорят, что дом – наша крепость, в которой ничего не страшно, тем более – обычная непогода! За этими удивительными вечерами приходили первые снега и заморозки, с глубоким ощущением кристальной чистоты вокруг, неповторимым ароматом первой зимней прохлады. Они всегда приводили за собой зиму, с трескучими морозами, упругими струйками дыма из домовых труб, ослепительно играющим блеском снежинок на солнце и затяжными, густыми снегопадами, зимними забавами, морозными узорами на окнах.
А уж как праздновали Новый год! Шумно, за общими столами, с наваристым холодцом, пусть не шикарными, но такими по-домашнему вкусными салатами, соленьями, наряженной высокой ёлкой! С долгожданными подарками детям, а главное, той же, присущей тому времени, теплотой, душевностью, домашним уютом. Нет, он выражался не в изысках интерьера и обстановки. Даже не в аромате домашней еды; он был где-то глубже. В чем-то более важном. В отношениях, разговорах, поступках, размеренном образе жизни и той, ни с чем не сравнимой, близостью с природой, землёй, нашим настоящим началом.
Так несколько десятилетий жила и Преображенка – настоящее русское село, родная деревня семьи Кривцовых. Она стояла в кольце невысоких гор и ароматных, каких-то изумрудных сосновых боров, таких прозрачных, светлых, с кристальным воздухом и упирающимися прямо в небо деревьями, в местах, необыкновенно щедрых на грибы и ягоды. Маленькая, в три улицы деревушка, спрятанная в объятиях леса и колхозного сада, собрала в себе множество добрых, открытых, трудолюбивых людей.
Главная достопримечательность крылась вдали, за зелёным изгибом горы Дальней, ярко окантованной лесами. Это был белоснежный, высокий, каменный храм, очень даже непростой для такого маленького села. Стены его были высокими, слепяще-белыми, казалось, улетающими в самое небо, а широкий вход под сводом массивной белой округлой арки был увенчан громадными колоннами. Какими-то дворцовыми, фундаментальными. Это было крайне непривычно для русских сёл. Храмы тут, как правило, отличались бревенчатыми стенами, неповторимым уютом, какой-то тёплой, почти домашней атмосферой, скромной, сдержанной красотой. Если даже среди них и встречались огромные красавцы, они всё равно были не настолько масштабными. Этот же храм был и вовсе похож на дворец и носил имя Рождества Пресвятой Богородицы, оттого купола его сияли ярко-голубым цветом, особенно сказочно видящимся в солнечный безоблачный день, когда небесная синева щедро и густо лилась сверху вниз, купая в себе церковные маковки; разве что легкие завитки облаков, похожие на обрывки воздушного шифона, летели где-то рядом, не цепляясь за кресты. Удивительно он виделся из посёлка в дни зимних обильных снегопадов, когда мутная, буранная, беспросветная дымка застилала собой весь горизонт. Это было волшебное зрелище: храм, как белая скала, медленно, степенно пропадал в объятиях метели, становясь с ней единым целым, сливался с пуховыми, легкими снежинками, словно крутящими вальс вокруг строения.
Внутри храм делился на три огромных предела; зал его был необъятен: под куполом в солнечные деньки струился яркий радостный свет, в пасмурные дни туманно-нежный. Образа в храме все были тоже большими, необычными, с какими-то глубокими, живыми глазами, которые увлекали за собой, далеко, необъяснимо, оставляя весь мир позади, за церковными стенами. Душе здесь становилось спокойно, мирские хлопоты отступали, благие помыслы сами собой шли в голову, а душевные боли отпускали.
Храм строили в былые времена местные помещики, которым принадлежали местные земли и огромный фруктовый сад рядом с нынешней Преображенкой. Говорят, у них очень долго не было детей, и они дали обещание, что, если Бог даст им желанное дитя, они обязательно построят огромный храм в своих владениях. Так и случилось: спустя пятнадцать лет брака супруги стали родителями красивой и здоровой дочки, ровно через год от её рождения засияли купола храма. В него ходили не только из Преображенки, но и из двух соседних сёл. В прежние времена здесь венчали, крестили, благословляли, отпевали, каждое воскресенье толпы народу тянулись к утренней службе, а звонкий большой колокол покрывал всю округу своим басовым, густым и гулким голосом, посылая летучий резонанс в самое небо! Потом помещиков раскулачили, сад забрали в колхоз, а храм оставили закрытым. За годы он заметно обветшал, образа и росписи на стенах потеряли былую яркость, наружные очертания храма утратили прежнюю белизну.
Теперь же его отреставрировали, привели в порядок, да вот только батюшки своего, местного, так и нет. Приезжают из райцентра раз в неделю, в воскресенье, да и то не всегда. Но тот светлый образ, то белое, небесное, возвышенное высоко над землёй облако чего-то божественного, необъяснимого, сосредоточенного в этот храм, по сей день захватывает дух и завораживает не только местных, но и гостей села. Ведь только взглянешь на него, как сразу понимаешь – вот она, моя Россия, с весенним акварельным закатом, кудрявыми листьями белоствольных берез, рассветным, неподвижным туманом над августовской рекой, запахом осенних яблок, облаками цветущей сирени у сельского скромного дома и, конечно, с белоснежными, могучими, величавыми храмами! И переполняется душа этим необъяснимым чувством родного, доброго, светлого, и становится на этой душе так светло, так радостно и одновременно спокойно, что хочется вдыхать настоящую, неповторимую жизнь полной грудью, жить и чувствовать каждый ее момент! Понимаешь – вот твоё место, как бы хорошо ни было где-то, а ещё лучше там, где мы есть, то есть тут, у истока своей удивительной Родины.
До страшных 90-ых здесь работал и полноценный колхоз, и молочный комбинат, и консервный цех, который специализировался на производстве овощных и грибных консервов, фруктовых соков.
Само собой, что база для этого самого производства также находилась недалеко от села. Огромный фруктовый колхозный сад, где росли вкуснейшие яблоки, вишни, сливы и груши. Раскинулся он в паре километров от Преображенки, точнее, позади неё. Весной сад напоминал огромное белое и очень ароматное облако. Летом вишни сплошь покрывались алыми ягодками, большими и очень сладкими, которые издалека смотрелись подобно маленьким огонькам, тяжёлыми гроздями на ветвях низкорослых деревьев повисали сливы, к июлю наливались сладким соком прозрачные, дивно пахнущие груши, такие ярко-жёлтые, что в них, казалось, живут брызги солнечного света. А ближе к концу лета, в августе, на густо зеленеющих ветвях раскидистых яблонь появлялись огромные красные яблоки. Какие-то неестественно красивые, правильные, словно восковые! Какими же вкусными были эти плоды! Необыкновенными! Такими, что преображенской земле приписывали магические свойства. Здесь, действительно, на редкость плодородная почва. Чернозёмная, жирная, но вместе с тем какая-то лёгкая, как пушинка, даже копать её было несложно! В местных светлых, по большей части хвойных лесах, каждое лето урождалось много сладких ягод, а осенью там же всходило огромное количество съедобных грибов: маслят, боровиков, подберёзовиков, подосиновиков и груздей! В огородах всё росло без проблем, почти каждый год плодовые деревья щедро осыпались ягодами, яблоками, грушами так, что ветки, тяжело прогибаясь, ложились к земле.
Особыми легендами было окутано озеро недалеко от села. Оно чернело прямо за колхозным садом: огромное, мутное, жуткое; гладь его, казалось, никогда не пронзали лучи солнца. Посередине водоёма перемещался маленький островок, заросший ветвями ивы и камышом, будто паутиной. Озеро это называли Ведьминым, хотя на самом деле в географических картах оно звалось Серным. Ведь такой неприятный цвет ему придавала именно сера, которой в воде содержалось огромное количество. «Но молва – штука серьезная, и местные мальчишки, если в колхозные сады ещё и лазали, то на озеро не заходили никогда!» Даже плавучий островок именовали мистически: Дьявольским. Заросший тяжёлыми лапами вековых ив, непролазным камышом и прочей водной растительностью, он и впрямь выглядел мрачно. Казалось, что там, за большой ивой, росшей на самом его краю, прячется целый тёмный лес, страшный, злой, полный нечисти. На самом же деле, островок был маленьким, а в центре его просто теснились растения. Но местные, конечно, придумали легенду; однако о ней чуть позже.
Пока продолжим знакомиться с семьей Надежды Анатольевны, нашей радушной хранительницы села. Они с мужем после свадьбы жили с его родителями, в небольшой деревянной избе, потом, со временем, построили большой отдельный дом, а перед домом разбили свой сад. Будучи прекрасной хозяйкой, Надежда Анатольевна сделала почти круглогодичную оранжерею вокруг дома в каком-то дворянском стиле: сад, наполненный розами, сиренью, хризантемами, яблонями, гладиолусами, что было абсолютно не присуще сельским жителям того времени. Он цвел практически круглый год, разве что за исключением зимы. И то, в преддверии нового года сказочно и светло смотрелась ель, посаженная в самом центре сада, которую наряжали к празднику. Особое место занимала рябина: хозяйка любила рассказывать, что тонкое деревце под самым окном кухни – это символ их с мужем любви. Они познакомились в конце сентября, когда летние цветы уже давно отцветают и поэтому на их первом свидании будущий супруг – Алексей Дмитриевич – подарил ей ветвь рябины, сплошь усыпанную алыми ягодами. Всё дело ещё и в девичьей фамилии Надежды Анатольевны – до замужества она была Рябинова. Свадьба их тоже состоялась в конце сентября, через год после знакомства, в необыкновенное время, когда ярко-алые ягоды рябины украшают почти каждый сад посёлка. С годами рябина под их кухонным окном разрослась и возвысилась над домом, изящно свисая с лицевой стороны дома к самой входной двери, словно радушно, как и хозяйка, встречая гостей.
Надежда Анатольевна была поистине настоящей хранительницей очага, к которой хотелось приходить в гости, лишний раз позвонить ей, увидеться на улице. Эта удивительная женщина совмещала в себе все: качества прекрасной хозяйки, хранительницы очага, постоянно баловавшей своего супруга пирогами, соленьями и прочими кулинарными изысками.
Отработав 10 лет учителем русского языка и литературы, она по приглашению перешла трудиться руководителем в сельскую библиотеку, где женщина заменила ушедшую из жизни заведующую, отдавшую своей работе почти полвека. Надежда Анатольевна долго колебалась и боялась, что не сможет достойно сменить превосходного руководителя и профессионала, работавшего ранее. Но она не только продолжила, но и приумножила труды предшественницы. Обновила библиотечный фонд, лично организовывала посиделки для бабушек и дедушек, романтические вечера для молодёжи и прочие интересные события. Состоялась она и как мама – через год после свадьбы в семье Кривцовых родился сын – Дима. Назвали мальчишку в честь деда по отцовской линии, происходившего из казачьего рода, Дмитрия Анатольевича Кривцова. Несмотря на то, что он был единственным ребёнком, мальчик рос неизбалованным.
Состоялась она и в профессии. Так как в семье Кривцовых царил уют и покой, Дима рос послушным и счастливым ребёнком. Ходил в местный дом культуры, где занимался в театральном и танцевальном кружке лет до 12, пока последний руководитель коллектива не уехал в город, а когда он учился в 4 классе, к ним в школу приехали тренеры из районного центра – небольшого, крепкого, промышленного городка, чтобы искать «таланты из народа». Увидев, как Дима умело и легко рассекает на коньках по школьному, вполне условному катку, его сразу же направили в секцию хоккея. Три раза в неделю отец возил Диму за 60 км в городок, но обозначенные перспективы и сразу же видимые успехи явно перевешивали все сомнения и сложности. В то же время мама – прирождённый педагог, не теряла бдительности, и когда было нужно, наказывала ребенка, где-то объясняла, где-то учила простым жизненным истинам.
Жизнь шла, а между тем светлый и уютный дом Надежды Анатольевны становился местом встречи Диминых одноклассников, друзей, соседей. Ведь все знали, что бы ни случилось – здесь всегда открыты двери, тут поймут и поддержат, если надо помогут, и с радостью разделят момент счастья! Хозяйка дома выглядела, как типичная дворянка – худощавая, высокая, ухоженная. С годами ее талия прибавилась на десять сантиметров, из привычных ранее 50-ти стала 60. Прямая спина, длинная шея, чёрные, как вороново крыло, зачастую собранные в шишку волосы, а самое главное – идеальные черты лица. Тонкий нос, чуть вытянутые щеки, чётко очерченные, словно нарисованные губы и огромные голубые глаза, подчеркнутые оправой чёрных ресниц.
А хозяин дома – папа Димы, был настоящим русским мужиком в лучшем смысле этого слова. Не слишком высокий, даже чуть ниже супруги, как говорят в народе, коренастый, широкоплечий. Русые волосы, светлые глаза – всё говорило о его сугубо славянском происхождении и явном добродушии. Дима не был красавцем: ростом он пошел в папу, внешностью по большей части тоже, но вот чёрный цвет волос и голубые глаза взял от мамы; пожалуй, именно они и придавали его образу какую-то магическую изюминку.
Конечно же, мальчик почти рос в библиотеке. Большое количество работы и почти полное отсутствие сотрудников, само собой, заставляли Надежду Анатольевну практически жить на работе. Ведь, кроме неё, там числилась только ещё одна библиотекарь, и та на 0,5 ставки, которая основным работником была в школе. Ещё работала тетя Даша, она и того меньше – на четверть рабочего места трудилась техничкой. Так что основную часть времени заведующая была одна: зимой приходила утром затемно, вечером приходила домой также по тёмным улицам. Не иссякал поток мальчишек и девчонок, которые приходили, чтобы взять новую книгу у Диминой мамы и пообщаться с Надеждой Анатольевной. Ведь она, будучи мамой одноклассника, соседа или просто знакомого мальчишки, всегда встречала с улыбкой, добротой, даже могла налить чашечку чая. Дима и сам полдетства провёл меж книжных полок и стеллажей, мама была не против, ведь так он сам развивал любовь к чтению, без чьих-то нравоучений и назиданий.
Глава 2. Новенькие
Вообще, надо сказать, что дети в этом селе рождались, были и росли, как правило, до возраста окончания школы, и только потом, устремлялись, гонимые ветром веры в свой успех и широкие горизонты в большой город. Здесь, они подобно птенчикам, росли под крылом родителей, огражденные от пороков и соблазнов мегаполиса, под влиянием провинциальных нравов и простой человеческой доброты, чистыми душой, не испорченными нравами этого мира. И такими оставались до того самого прощания со школьным порогом, после девятого или уже одиннадцатого класса. А потом, расправляя крылья юношеской мечты, опираясь на свои стремления к большим свершениям, напитанные верой в себя и лучшее, а иногда подкормленные юношеским максимализмом, они набирали скорость на взлетной полосе этой жизни и летели в большие города. Причем, далеко не все из них понимали зачем, общественное мнение и этот пресловутый «привычный ход событий» несли их, словно бурная горная река, не оставляя времени подумать и услышать трепетный робкий голос своей души. Как же сильно мы подвластны этому самому влиянию чьего-то мнения, да, именно чьего-то, красиво названного общественным. Только вдумайтесь, а кто это общество? Это люди, это кто-то, чья душа вполне возможно беднее и грязнее нашей собственной! А мы слушаем это самое мнение, позволяя навязать нам их нравы, и вместе с тем, как меняются времена, меняются и эти самые нравы. А мы, особенно в юности, нередко становимся жертвами этого влияния. Вот и сегодняшние людские нравы, пропитанные алчностью, эгоизмом, а порой и бесчеловечностью, диктовали молодым и непорочным, что жить нужно в большом городе, одеваться модно, а душу испоганить черствостью, тело освободить от скромности и стеснения, чтобы оно погрязло в случайных и ранних связях, нередко подогретых соображениями материальной выгоды. Одним словом, городское, казалось бы, должное быть более образованным и воспитанным общество, растило истинных эгоцентричных потребленцев, неискушенных стремлениями к покорению больших высот, воплощению высокой мечты, состраданию и порядочности. Кто-то из них, сегодняшних девчонок и мальчишек, сможет устоять и не побоится остаться уникальным, не таким как все, выделяющимся из серой массы потребления, бесконечного прожигания жизни в потоке веселья и развлечений, чистым душой, другим, не «отшлифованным» обществом. Но большинство сделают выбор в сторону легкости и веселья, эгоизма, простого удобства: ведь легче лечь в постель и без обязательств жить с человеком, который обеспечит кров, еду и содержание без лишних хлопот, чем ютиться на крохотных съемных уголках, работать и учиться, не оставляя себе лишнего времени на сон и отдых. Проще быть, в так называемых, отношениях без обязательств, когда не нужно быть одному, но при этом нет необходимости брать на себя ответственность за счастье другого, заботиться о нем, а приближать его, как преданную собачонку, всякий раз, когда одиноко или плохо, отталкивая когда захочется, прикрывая свое поведение знаменитыми сегодня личными границами! Не нужно при этом вместе строить семью, стремиться к чему-то, преодолевать сложности, карабкаться вверх по отвесному склону этой жизни, усеянному остроугольными камнями, ямами и прочими трудностями. Легче вообще не бороться и не взбивать масло из молока, пересиливая усталость и волны общественного мнения, а пасть на дно этой бездны эгоцентризма, удовольствий и бесстыдства, порядочности и совести, сложив лапки под толщей чужого мнения, устоев в стиле «так принято» или «все так живут».