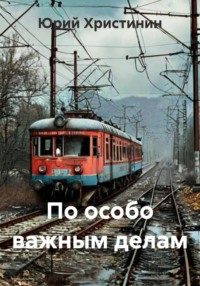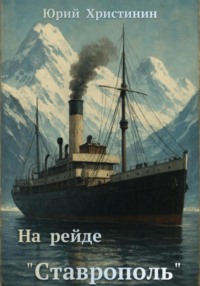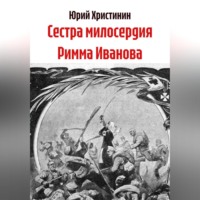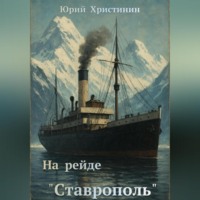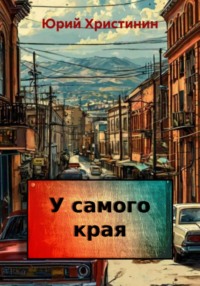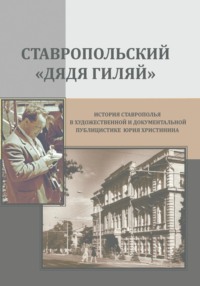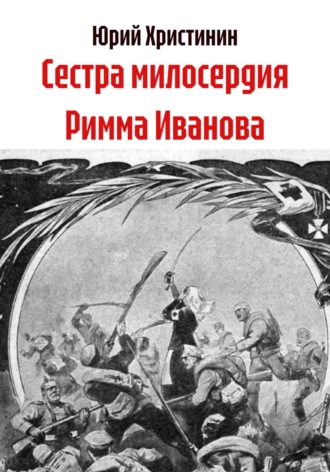
Полная версия
Сестра милосердия Римма Иванова
– Отче наш, иже еси…
Детишки подтягивали вслед за ним недружными тонкими голосами, со страхом глядя на своего сурового наставника.
По воскресеньям с утра Митрофан Васильевич тоже являлся в школу. Минут через десять-пятнадцать вслед за ним начинали сюда же тянуться родители учеников – люди в основном бедные, измученные тяжким крестьянским трудом. Коростылев принимал "подарки".
– Что же это ты, старая, – брезгливо разворачивая замызганный серый платок с черной каймой, цедил он. – В прошлый раз от меня яичками отделалась и опять тех же самых проклятых яичек принесла? Твоего сопляка и разбойника Неподымку я, можно сказать, всей душой жажду человеком сделать! А ты мне за мою доброту – яички!?
– Боле ничего нету, господин наш, наш батюшка, благодетель наш, – униженно и часто кланяясь, причитала скороговоркой старая, со сморщенным, словно сжатая бумага, лицом, крестьянка – мать Коли Неподымки.
– Знаешь ты, благодетель наш, наш батюшка, какой год подряд астраханец дует… Такие уж ветры дули, что все повыдули, ничего не осталось в землице, ничего не уродило, благодетель ты…
– "Не уродило! Повыдуло!" – сердито прервал ее Коростылев. – Смотри, старая, а то как бы твоего разбойника эти самые астраханцы за порог школы к чертя собачьим не повыдули! Ступай, да принеси хоть сала, что ли. Или медку липового…
– Василич! Благодетель ты наш, радость ты наша, ведь летошний годок-то…
– Ну а ты, мать, с чем пожаловала? – уже поворачивался к другой посетительнице Митрофан Васильевич. – А-а, это уже по-нашему. А то знаешь, что-то в последнее время того…
Он деловито выдернул из десятилитровой бутыли служивший вместо пробки и обернутый для герметичности тряпицей кукурузный кочан и, небрежно плеснув в жестяную помятую кружку мутную струю принесенного самогона, тут же, на глазах ожидающих своей очереди дарительниц выпил.
Римме было неловко и стыдно смотреть на все это. А особенно, когда одна пожилая крестьянка вдруг направилась к ней и тоже протянула узелок:
– Возьми, доченька. Чем богаты – тем и рады, ты уж не погнушайся подношением-то…
Она даже не помнит толком, как отказывалась от свертка, что при этом говорила. Зато врезались ей в сознание с фотографической ясностью удивленные донельзя глаза крестьянки – та никак не могла взять в толк, почему это городская "учителка" вдруг не берет подношение, почему брезгует? А ведь на вид добрая…
Снова ночью Римма плакала. Господи, как же все это далеко было от ее мечтаний, как не вязалось с представлениями о высоком долге и святом призвании народного учителя! Вдоволь нарыдавшись, она уткнулась лицом в повлажневшую подушку и, лишь теперь успокоившись, поняла: нет, так дальше продолжаться не может! С этим надо кончать… Но как?
Поехать разве к инспектору, обо всем рассказать? Но разве не видела она сама, как только вчера Коростылев отправил со школьным сторожем полную телегу "подарков" этому самому инспектору? Нет, как видно, вправду говорят люди: плетью обуха не перешибить. Она же в данном случае и есть всего-навсего плеть, а обух – сложившиеся еще задолго до ее появления здесь традиции и обычаи, и сам Коростылев, и ни разу ею не виденный инспектор… и все им подобные.
Кончилось все довольно скоро, неожиданно и страшно. Поутру на следующий день, уйдя из школы, Митрофан Васильевич привычно пересек улицу и хлопнул старой дверью под вывеской "Пей другую!" Через час Римма увидела в окно: заведующий появился на улице. А вскоре в школьном коридоре раздался его хриплый голос. Коростылев пел:
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарский,
С нами век мне золотой!
При последних словах он обо что-то крепко споткнулся, раздался грохот от падения его тяжелого тела, по полу отчаянно затарахтело перевернутое пустое ведро. Римма вздрогнула и замолчала, лица ребятишек заметно побледнели. заведующий же, будучи пока еще невидимым, матерно выругался, откашлялся и, как ни в чем не бывало, заголоси снова:
Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней под шалашами,
Днем – рубиться молодцами,
Вечером – горелку пить!
Она, конечно же, знала знаменитую песню гусарского поэта Дениса Давыдова. Но чтобы когда-нибудь ее исполняли таким мерзким, гнусным, противным голосом!.. Римма почувствовала, как к горлу подступает опасная тошнота. А заведующий в коридоре откашлялся и завыл пуще прежнего – на сей раз, правда, нечто совершенно нечленораздельное.
Потом он решительно распахнул дверь, пошатываясь, остановился на пороге. Каким-то нечеловеческим, бешеным взглядом окинул притихший класс.
– Н-н-н… е-е… подымка! – заревел он. – Поди сюда, разбойник, поговорить с тобой надо!
Мальчишка с неописуемым страхом в глазах подошел к заведующему школой. Тот криво усмехнулся, схватил Колю за волосы, и.. ударил прямо лицом об стену! Из разбитого носа и губ тотчас хлынула кровь, оставив на беленой стене темно-алые, почти черные пятна: все произошло так неожиданно, что мальчишка рухнул на пол, даже не успев вскрикнуть.
И тут-то оцепенение кончилось: Римма сорвалась с места и подбежала к Коростылеву. Ей никогда в жизни, даже в детстве, не приходилось драться. Но тут она с такой силой толкнула директора в грудь, что тот, покачнувшись, наверняка упал бы, не окажись рядом с ним массивной вешалки, послужившей ему подпоркой. Он тупо уставился на Римму и заулыбался:
– А, это вы… госпожа Иванова? В Америке, да? Ваша маменька… Она была… в Ливерпуле?
– Вот тебе, подлец, Ливерпуль! – И Римма с размаху ударила его ладонью по щеке. – Получи свою Америку!
А потом, глотая слезы, хлестала заведующего снова и снова, истошно крича:
– Это – от меня! А это – от моей маменьки! А это – от Канады! Это – от Африки с Азией!..
Когда Коростылев все-таки свалился на пол, она выбежала из класса, крикнув ребятишкам:
– Позовите фельдшера! Не ему, не этому… Мальчику позовите, Коле!
Прибежав домой, торопливо пошвыряла весь свой скарб в чемоданы. Наняла мужика с телегой до самого Ставрополя.
Вернувшись домой, с неделю прометалась в горячечном бреду: потрясение оказалось нешуточным.
Когда поправилась, отец рассказал ей под совершеннейшим секретом от матери: ему пришлось за дни ее болезни немало похлопотать, и даже, как он выразился, "позолотить одному подлецу лапу", дабы замять надвинувшийся было скандал.
Дело в том, что Коростылев, придя в себя, настрочил начальству по линии народного просвещения на нее жалобу: дескать, госпожа учительница Иванова покинула свой пост без всякого на то дозволения, даже не получив причитающегося ей расчета. Бросила детей на произвол судьбы, явно недобросовестно отнеслась к работе на благородном и великом поприще несения света в широкие и добрые, но явно непросвещенные народные массы. Поскольку отец Риммы был лицом заметным, "дело" доложили самому губернатору. И тот, поколебавшись, принял решение: к ответственности, учитывая крайнюю молодость, госпожу Иванову не привлекать, но запретить ей сроком на два года право преподавания во всех школах губернии.
Узнав об этой несправедливости, Римма была потрясена и, наверное, снова слегла бы в постель, но отец вдруг широко улыбнулся и, привлекши дочь к себе, тихо сказал:
– Ничего, дорогая моя, ничего. Знаешь, как сказано у одного поэта? "Не тот, кто на землю упал – побежден, не тот, кто разит – победитель!" Я лично считаю, что этот первый в жизни бой ты выиграла, хоть и с уроном. Как-никак, а дознание по случаю вашей схватки было назначено, и твоего Коростылева строго наказали. И не ясно, оставят ли в заведующих, могут вымести на улицу самой что ни на есть поганой метлой.
И он добродушно засмеялся.
Римма полными слез глазами посмотрела на отца и… тоже засмеялась.
Сазоновский "крестник"
Странным порою образом переплетаются человеческие судьбы! Нет-нет, да и сходятся вдруг на одной житейской тропе люди, которые, казалось бы, никогда, ни при каких обстоятельствах не должны были встретиться!
… Когда 17 июля 1914 года царь Николай II объявил о всеобщей мобилизации в России, Алексей Учинский находился в городе на Неве, проводя отпуск у родственников, и никак не предполагал, что уже через несколько часов в жизни его произойдут перемены, о которых потом придется вспоминать с душевным содроганием. Что поделаешь? Солдаты нигде и никогда не принадлежали самим себе, причем военными, несмотря на их бравый и независимый вид, всегда распоряжались штатские лица.
В полночь 18 июля правительство Германии предъявило России ультимативное требование об отмене намеченной мобилизации. Это было грозной переменой в судьбах сразу многих миллионов ни в чем не повинных людей вообще, а прапорщика Учинского – в частности.
Вечером 19 июля германский посол в России граф Пурталес прибыл к министру иностранных дел Сазонову за ответом на ультиматум. Тот встретил его весьма холодно.
– Мы не являемся, граф, державой, – достаточно высокомерно заявил он, – которой можно диктовать, к тому же таким несдержанным тоном, свои условия. Россия не может согласиться с требованиями Германии.
В знак уважения к словам министра посол склонил голову.
– В таком случае, уважаемый Сергей Дмитриевич, – он нарочно назвал собеседника по имени, чтобы подчеркнуть свою чисто посредническую роль в данном разговоре, – в таком случае позвольте мне вручить вам ноту.
– Война? – спокойно, но почти шепотом спросил Сазонов.
И поскольку граф не ответил, взял протянутый им лист бумаги в руки, пробежал глазами.
– Что ж, – сказал хрипло, – по моему мнению, данная война не столь страшна для нас, русских, сколь для самих немцев. Более того, господин посол: я в этом абсолютно убежден…
Через несколько дней, присутствуя на проводах частей на открывшийся русско-германский фронт, Сазонов повторил эти, так понравившиеся ему самому слова. Вообще склонный к звонкой фразе, к речевому позерству, он и на сей раз придал своему голосу как можно более торжественности:
– Я абсолютно уверен в том, господа герои российские, что данная война не столь страшна для нас и нашего Отечества, сколь страшна она для наших врагов, коим непременно принесет смерть и погибель!
Потом, решившись обойти строй и с кем-нибудь из уезжающих на фронт поговорить лично, высокопоставленный министр направился к стоящему на правом фланге Учинскому. Скользнул по нему взглядом. Прапорщик вытянулся, четко представился.
– Учинский, Учинский… – пробормотал задумчиво министр. – Очень знакомая фамилия, а вот вспомнить не могу… Дворянин, конечно?
– Дворянин, ваше высокопревосходительство!
– Что же, прапорщик, желаю вам в боях отличий и всяческого благополучия. Думаю, что придет час, и вы, вспомнив о нашей сегодняшней встрече, с гордостью скажете себе: "Я сделал все, что советовал мне сделать для Отечества старик Сазонов!" Вот тогда и выполните мою просьбу: напишите мне об этом. Буду очень рад узнать о ваших ратных подвигах. Договорились?
– Почту за честь, ваше высокопревосходительство! – не скрывая удивления столь странной просьбе всесильного члена Государственного совета, отчеканил прапорщик.
Вокруг почтительно зааплодировали старшие офицеры: в те первые военные дни и даже недели проводы на фронт напоминал собой грандиозные театральные фарсы. Девицы в белых платьицах, трогательно открывавших их худые ключицы, забрасывали солдат цветами, гремели оркестры, а ветераны русско-японской войны произносили, стоя прямо на паровозных тендерах, ура-патриотические речи. Страны Антанты отправили на фронт шесть с лишним миллионов человек.
Огромную человеческую массу живенько разбросали по армиям и в обстановке хаоса и неразберихи отправили две из них на Северо-Запад, четыре – на Юго-Запад, одну – на границу с Румынией, а еще одну – на прикрытие русской столицы со стороны Балтики. С великой помпой было объявлено о назначении Верховным Главнокомандующим Великого князя Николая Николаевича, а начальником Генерального штаба – генерала Н. Н. Янушкевича.
После всех этих чисто подготовительных мероприятий сильные мира сего начали кровавую игру в солдатики, повелев своим генералам выдать рядовым по семь патронов сутки на человека и по три снаряда на пушку. Сказали: "Сражайтесь!"
А сражаться было ох как нелегко! Мировая война упрямо не считалась с "объективными трудностями исторического развития" России, никак не принимая во внимание ее все увеличивавшиеся потери в личном составе и вооружении.
Все трудности, с которыми пришлось столкнуться на фронте совсем еще юному прапорщику, не стоит, пожалуй, перечислять и описывать. Восемьдесят третий Самурский Его Императорского Высочества Великого князя Владимира Александровича полк, куда определили на службу прапорщика Учинского, был одним из славных в русской армии, сформированным еще в далеком 1845 году из частей Подольского, Пражского, Житомирского полков и Грузинского линейного батальона.
За взятие Салты получил полк Георгиевское знамя уже через два года после своего рождения. А там отличия посыпались на него как из рога изобилия. Георгиевские трубы за подавление восстания в Дагестане, за штурм крепости Геок-Тепе, за военное отличие и примерное мужество при тридцатидневной обороне крепости Куба. Знаки на шапки за отличия на Кавказе в 1857-1859 годах, за Хивинский поход 1873 года…
Названный Самурским – по имени области в Южном Дагестане, – полк и комплектовался за счет жителей Северного Кавказа – Кубани, Ставрополья, Дона. Вот почему, честно говоря, Алексей очень не хотел уходить из этого полка, когда его неожиданно перевели в Оренбургский полк. Там он и сошелся очень коротко с Ивановым.
Сначала и ему снились по ночам награды и отличия, слава полководца и преклонение отдающих должное его воинским заслугам соотечественников.
Но пришлось ему для начала драпать вместе с полком в Галиции, да и, говоря по правде, проделывал он это в течение войны не один раз. Беда в том, что в русских частях израсходованные снарядные запасы почти не компенсировались. Зато военное министерство неустанно слало и слало на фронт листовки, которые должны были вдохновлять солдат на ратные подвиги, но на самом деле из-за высокого качества бумаги не годились даже на раскурку.
"Наша героическая непобедимая эскадра вступила в Черное море в бой с германскими крейсерами "Гебен" и "Бреслау". Первому из них нанесены непоправимые повреждения. Наше господство на море окончательно и необратимо!"
"После нашего сокрушительного контрудара на Кавказском фронте окружен и уничтожен десятый турецкий корпус, а все командование девятого сдалось в плен. Наше преимущество над турками окончательно и необратимо!"
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.