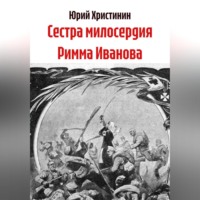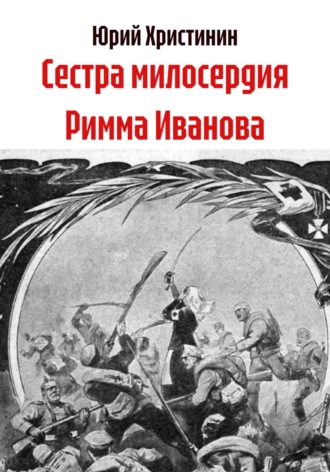
Полная версия
Сестра милосердия Римма Иванова

Юрий Христинин
Сестра милосердия Римма Иванова
Для славы мертвых нет.
Анна Ахматова
Вместо пролога
Над тихим и дремотным городком Могилевом висит сентябрь. "Официальная" осень уже началась, но зелень на деревьях по-летнему свежа, и только на пыльных кустарниках, широкой живой изгородью обступивших невысокий, тщательно выбеленный двухэтажный дом, словно редкая проседь в прическе молодого человека, кое-где разбросаны желтеющие листья – предвестники приближающихся холодов.
Вокруг – ленивая патриархальная тишина, нарушаемая иногда дребезжанием пробегающих по древней гулкой узкоколейке красно-желтых старых трамваев да приглушенным фырканьем подкатывающих к особняку автомобилей, из которых торопливо выходят военные в выцветших полевых мундирах, но зато с начищенными до блеска сапогами.
Судя по всему, двухэтажный дом – важное в городе заведение: вокруг него установлены три кольца охраны, состоящей из полутора тысяч солдат; на крыше ощетинились в небо вороненые стволы восемнадцати скорострельных пулеметов, предназначенных для защиты от аэростатов и цеппелинов.
В доме этом с недавних пор обосновался рыжеватый, невысокого роста полковник русской армии, занимающий две комнаты, одна из которых служит ему кабинетом, а вторая – спальней.
На людей, видевших его впервые, внешность полковника не производила особенного впечатления: был он до тоскливости обычен, говорил негромко, всегда спокойно, не раздражаясь. В обращении с окружающими был обходителен – порою даже до заискивания, которое, кстати, никогда не вызывалось нуждою или необходимостью.
Однако, в положении, какое занимал этот полковник, было нечто такое, что заставляло людей трепетать при одном его появлении, при малейших изменениях его настроения, чутко улавливать оттенки произносимых им казенных и безразличных слов.
Войдя в кабинет полковника, генерал Алексеев остановился у двери, ожидая приглашения пройти к столу. Но хозяин кабинета вышел из-за стола сам, ласково протянул гостю руку:
– Рад видеть вас в добром здравии, дорогой Михаил Васильевич, – сказал он тихо. – Что нового на фронте?
– На сегодняшнее утро существенных перемен, Николай Александрович, к сожалению, не отмечено, – успокоенный добрым приемом, Алексеев рискует величать полковника без титулов, только по имени-отчеству. – Я принес вам проект Указа, о котором имел честь беседовать с вами давеча.
– А, – словно припоминая что-то, полковник потер висок. – Уже подготовили? Столь быстро?
– Подготовили, Николай Александрович. Изволите подписать?
Плотный лист тяжелой гербовой бумаги ложится на зеленое сукно стола. Полковник долго смотрит на него, потом поднимает глаза на Алексеева:
– Орден Георгия Победоносца четвертой степени… Ведь это же самый высокий военный орден России. И удостоены его пока весьма и весьма немногие лица, не правда ли? И дается он, если только верить статусу, за выдающиеся воинские заслуги перед Отечеством, за беспримерную личную воинскую храбрость? Вот вы, генерал, кажется, до сих пор не имеете такого ордена?
– Не удостоен, – сухо кланяется Алексеев. – Не о моей скромной персоне речь…
– Да и сам я, – полковник подошел к окну. – И сам я получил его совсем недавно, лишь несколько дней назад. И то, – полковник понимающе усмехнулся, – и то исключительно благодаря такту и чуткости генерала Иванова. После моей поездки на передовые позиции у станции Клевень он буквально принудил Георгиевскую думу Юго-Западного фронта принять надлежащее письмо куда следует… Да вот же оно, оказывается, под рукой. Вот… "Через старейшего Георгиевского кавалера, генерал-адъютанта Н.И. Иванова повергнуть к стопам государя всеподданнейшую просьбу – оказать обожающим державного вождя войскам милость и радость, соизволив…" Гм, ну, и так далее, даже читать несколько неловко… Словом, по данному документу Георгиевским кавалером только что стал я сам. И тут вдруг… речь ведь идет всего лишь о сестре милосердия, не так ли, генерал?
– Точно так. О сестре милосердия Оренбургского пехотного полка Римме Михайловне Ивановой. Беру на себя смелость напомнить вам, что уже ранее она была удостоена трех Георгиевских отличий.
– Но… Не умалим ли тем самым назначения данного ордена? Кстати, генерал, а не интересовались ли вы: были ли награждаемы подобным беспримерным отличием женщины вообще?
– Интересовался, Николай Александрович. Таким орденом была отмечена девица Надежда Андреевна Дурова, участница двенадцатого года. Помните, она еще написала потом прелюбопытную книжицу – "Записки кавалерист-девицы"?
– Не читал, но слышал, сколь высоко она в ней отзывается о престоле и государственной власти… Стало быть, Михаил Васильевич, больше ста лет с тех пор минуло? – полковник замолчал и, по-прежнему стоя у окна, глубоко задумался.
Первым тишину рискнул нарушить Алексеев.
– Я уже имел, Николай Александрович, честь изложить причины, побудившие меня, равно как и Николая Иудовича Иванова, столь энергично поддерживать ходатайство фронтовой Георгиевской думы относительно отмечания подвигов госпожи Ивановой, однофамилицы генерала. Это необходимо хотя бы потому, что надо доставить войскам пример самопожертвования русского человека, его великой верности престолу и Отечеству. Девица Иванова в свои двадцать лет весьма подходяща для этих целей, ибо примеров, подобных содеянному ею, не так много…
Произнося последние слова, генерал несколько замялся, но все-таки вновь довольно твердым голосом повторил их, стараясь при этом смотреть полковнику в самые глаза:
– Не так много, как того нам бы хотелось… И, кроме того, совершенный госпожой Ивановой подвиг, по моему и Николая Иудовича разумению, и точно, достоин столь высокого отмечания.
Полковник, внимательно посмотрев на генерала, подошел к столу, взял в руки перо. Вздохнув, принялся негромко читать бумагу:
– "В воздаяние подвигов, – бормотал он, – мужества и храбрости, оказанных сестрой милосердия Риммою Ивановой 9 сентября сего года… Мы своим Указом в 17-й день сентября Капитулу данным, пожаловали ее кавалером Императорского военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия четвертой степени…"
Он аккуратно обмакнул перо в чернильницу, посмотрел близоруко на его стальной кончик: не налипло ли чего. И размашисто расписался – Николай.
Слегка потряхивая листом в воздухе, чтобы просушить таким образом подпись, принадлежавшую русскому императору Николаю Романову, начальник Генерального штаба сухо поклонился Верховному главнокомандующему и едва ли не на цыпочках направился к выходу. Он был вполне удовлетворен результатами своей миссии: проект Указа с этой минуты превратился в самый настоящий императорский Указ за номером 1006…
Отпуск с поездкой домой
В тот вечер Римма осталась в своей комнате на втором этаже старого родительского дома одна. Она ушла сюда почти сразу после ужина, сославшись на головную боль.
– От жары, наверное, – сказал мать без особой тревоги. – Поди, приляг, легче станет.
А Римме просто хотелось побыть одной. Она стояла у окна в простенькой хлопчатой рубашке до колен, глядя широко открытыми глазами на полную луну. Римма сочувствовала ей: несчастная, ведь она там, своем холодном далеке, совсем одна и даже не знает, что завтра приезжает, наконец, Володенька!
Она ждала этой встречи давно – с того самого счастливого дня, когда пришла его телеграмма: предоставлен отпуск с поездкой домой. Узнав об этом, несказанно обрадовалась мать, улыбнулся своей несколько казенной улыбкой старого чиновника консистории отец. Но Римма… О, она буквально засветилась от счастья: брат приезжает домой, на целых две недели! Может быть, у него вся грудь в орденах и медалях, хотя отец утверждает, что военным медикам дают награды не шибко часто. Но откуда это отцу и знать? Он ведь никогда не был настоящим героем, никогда! А Володеньке, безусловно, награды вышли, если даже другим медикам они и не выходят вовсе: он такой храбрый. Он мог еще в детстве залезть на самый верх стоящей во дворе старой груши, а потом, раскачав вершину, прыгнуть с нее, пренебрегая опасностью, прямо на землю. Ни у кого из мальчишек подобный отважный трюк не получался. А когда она сама однажды решилась после очень недолгих колебаний повторить его, то долго потом ходил с оранжевыми пятнами йода на носу и коленках…
Два года Ивановы не видели Владимира. Ему уже был положен в полку очередной отпуск, когда началась война.
Они узнали о ней утром – по необычному шуму, ворвавшемуся вдруг в форточки их маленького домика на Лермонтовской улице. Римма, соскочив с постели, как всегда подбежала к окну, прижалась еще неостывшим после сна теплым лбом к холодному стеклу. около уличной тумбы, на которой белели прямоугольники каких-то свежерасклеенных листов, толпился народ. И толстый городовой, приняв почему-то до смешного нелепую позу и положив красную здоровенную руку на "селедку" – так ребятишки с улицы называли его огромную шашку, – натужно крикнул сиплым от табака и частого употребления горячительного голосом:
– Государю императору Николаю Александровичу – ура, господа! Мы намолотим немцу по мордасам!
"Что это с ним? – потянувшись и откинув со лба длинные и волнистые рыжеватые волосы, подумала Римма. – С ума спятил, что ли? Кого это он решил молотить по мордасам, какого немца?"
Толпа между тем ответила городовому тягостным молчанием, и тот, сделав вид, что ничего не произошло, солидно прошествовал дальше, к следующей тумбе.
В комнату вошла мать, хмуро посмотрела на дочку. И вдруг не на шутку рассердилась:
– Какая же ты, право, бесстыдница! – в сердцах воскликнула она. – Десятый час, отец уже давно на службу ушел, а ты все в одной рубашке разгуливаешь! Немедленно одевайся да ступай поскорее чай пить.
И, тяжко вздохнув, размашисто, как всегда, перекрестилась:
– Ах, беда-то какая, господи! Беда-то какая страшная…
Римма, уже потянувшая было кверху, на голову, рубашку, остановилась:
– Какая такая беда, маменька? Разве случилось что?
Она схватила мать за руку и порывисто прижалась к ней:
– Ой, а утро какое хорошее… Неужто и вправду стряслось что-нибудь гадкое, а, маменька?
Она отстранилась, зябко повела хрупкими плечами. А мать, словно вес силы вдруг покинули ее, опустилась на дочерину постель:
– Война, Риммочка. Война, милая ты моя… Боже мой, боде! Что теперь будет-то, господи? Германец, не дай господь ему здоровья, на нас тронулся, на всех столбах высочайший манифест расклеен… А наш Володенька-то в армии!
Римма не нашлась что ответить…
Владимир, как и следовало ожидать, в отпуск тогда не приехал. Письма и те приходили от него редко, зато каждое из них становилось в доме праздником. Сначала их подолгу читал и разглядывал отец, потом мать, и лишь после ими завладевала Римма. Даже выучив их на память, девушка все равно не желала расставаться с листками, исписанными торопливыми буквами. Она с восторгом смотрела на картинку: бравый русский солдат с блаженной улыбкой на загорелом мужественном лице вонзает штык в толстое пузо усатого кайзеровского офицера.
Со временем они просто перестали поджидать Владимира в отпуск. И вот – совершенно непредвиденное: телеграмма. Володенька уже в пути, он завтра будет в Ставрополе!
… Поезд подходил к станции в десять часов вечера. Было очень темно, и Римма не сразу признала в выпрыгнувшем из второго вагона бравом офицере своего брата. Спешивший ей навстречу мужчина был, казалось, намного выше Володеньки ростом, и даже заметно шире в плечах. Но, странное дело, именно он вдруг подхватил Римму на руки и оторвал, как пушинку, от земли. К ее щекам прижались его жесткие, прокуренные и обветренные губы.
– Володе… – попыталась было вскрикнуть она. Но он закрыл ей рот поцелуем, а затем прижался лицом к длинным волосам.
– Володенька, дорогой! – от вокзала подбежала к нему задыхающаяся от бега и волнения мать. А отце, солидно остановившись поодаль, терпеливо ожидал, когда женщины, по его выражению, "оросят ребенка слезами". И только после того Михаил Павлович подошел к сыну.
– Ну, – сказал коротко, – давай обнимемся.
Они крепко, как это делают мужчины, обнялись, поочередно даже приподняв один другого: в руках отца, человека еще крепенького, хранились немалые запасы силы.
– Ну, и слава богу, – ворчал он, усаживаясь и извозчичью пролетку, – слава богу, что еще хоть один мужик в дом прибыл, а то мне совсем уж нет никакого житья от прекрасного полу. С утра до ночи только одни ахи да охи слышишь.
– Замучился вконец, бедненький, – утирая кружевным платочком уже и без того просохшие на ветру слезы, с улыбкой возражала Елена Никаноровна. – Посмотри, сынок, как папенька исстрадался, вон какой убогий сделался…
Солидно, но не очень решительно и громко хмыкнув, старший Иванов попытался было подтянуть небольшое, но достаточно округлое пузцо. Когда же названное деяние в силу каких-то неуточненных обстоятельств ему не удалось, Михаил Павлович несколько даже сконфузился.
– Времена ноне ох какие тяжкие, – сказал он протяжно и несколько виновато. – Народ с голоду пухнуть начинает. Хлеб с отрубями люди пекут.
– Вижу, вижу, – рассмеялся сын. – Конечно же, этот животик с голоду, от чего же еще! Откуда ему и взяться, коли не от хлеба с отрубями!
Все расхохотались громко и дружно – извозчик, обеспокоившись, даже обернулся:
– Чего изволите, господа хорошие? – спросил он.
– Ничего, брат, только погоняй скорее, – засмеялся Владимир. – Домой знаешь как хочется? Полтора года в родных пенатах не был!
– Там и сейчас все так же, как ты оставил, – похвалилась торопливо Елена Никаноровна. – Даже на окне книжка твоя лежала, еще Риммочка прибрать ее куда-то на место хотела. Так я ей не велела этого делать… Знаешь, говорю, доченька, примета такая есть: если в комнате оставить все, как было при хозяине, он туда обязательно вернется. Вот ты и вернулся, сыночек, – и мать припала лицом к грубом сукну шинели. А Римма прикоснулась к скрещенным на спине брата блестящим и скрипучим портупейным ремням. Они были гладкие, как лед, и почему-то почти такие же холодные. Она отдернула руку.
Дома, войдя в гостиную, Владимир торопливо снял шинель, швырнул ее на кресло. Расстегнув крючки стоячего воротника на кителе, подошел к столу, заблаговременно уставленному всякими разносолами.
– Боже мой! – сказал он нараспев. – Неужели я дома?!
Римма сразу же углядела на груди брата маленький крестик на оранжево-черной ленте: Георгий!
Она все смотрела и смотрела на этот крестик, вдруг ставший для нее магическим. Какой-то неудержимый восторг охватывал ее. Вот! Она знала, что Володенька приедет с наградами! А отец только понапрасну возражал… А что, если… если потрогать крест рукой? Или взять да попросить его… поносить немножко?
– Ну, сын, садись, – распорядился Михаил Павлович. – Вот баранинка, вот хлеб. Между прочим, пшеничный. Вот ячневая кашица с хренком, твоя любимая. Мы живем небогато, но не зря же говорят на святой нашей Руси: чем богаты, тем и рады, никому не завидуем. А вот, кажись, и маринованные грибочки, сам собирал в Архиерейском лесу… Э, мать, – он обернулся к жене, – что же это такое?
– А что случилось? – притворилась ничего не понимающей Елена Никаноровна.
– Грибочки, как ты знать должна, суть закуска! А что же то за закуска, коли к ней не придано водочки? А, мать?
Елена Никаноровна, повздыхав, достала большую зеленоватую бутылку. Михаил Павлович, лихо опорожнив стопку, загрыз грибочком, перекрестил на всякий случай рот.
– От всякого греха. А то что-то травиться грибочками люди начали… За что Георгия-то тебе пожаловали?
– Да, Володенька! – радостно подхватила разговор Римма. – За что? Ты подвиг, наверное, совершил, да?
– А ты, егоза, не высовывайся, – покосился на нее больше для порядка Михаил Павлович. – Когда мужчины разговаривают промеж собой, девицам вмешиваться в их разговоры не приличествует.
Римма досадливо прикусила губу:
– Право же, папенька, я вовсе не собиралась вас перебивать! Не мне так интересно… Я даже думаю, что Володенька ходил в атаку, и… все такое. Правда же, Володенька?
– Ага. Еще и как ходил.
– И солдаты ходили за тобой?
– Ага. Даже не ходили, а бегом бежали. – При это он как-то неестественно улыбнулся. – Я, понимаешь ли, поднялся и бросился вперед. А за мной, значит, монолитными стальными рядами бросились наши отважные воины, наши, значит, чудо-богатыри. Вокруг нас свистела шрапнель, рвались бомбы. Но мы уверенно продвигались вперед, неся в груди святую верность престолу, не считаясь с тяжкими потерями. Мы были одержимы одним только желанием…
– Победить, да? – бледнея от услышанного, одними губами спросила Римма: она не уловила в голосе брата иронии.
– Ага, победить! Впрочем, наверное, нет. Знаешь ли, у нас на фронте как-то держал речь один высокопоставленный поп, какой-то придурковатый, каковых, в основном, и призывают из резерва в армию… Так вот, он рассказывал нам о славной гибели рядового Имярек. Его взяли в плен, поставили к стенке. И пустили пулю. но он не погиб, а просто свалился на колени и при этом провозгласил здравицу в честь нашего государя императора. Тогда его решили повесить. Но упрямый Имярек вешаться, видимо, не захотел: веревка оборвалась, а он воспользовался моментом, чтобы прокричать многая лета всей царской семье. Тогда его просто утопили… И, судя по тому, что со дна реки наружу шли многочисленные пузыри, Имярек и будучи на дне продолжал кричать что-то патриотическое… Короче говоря, поп кончил свой бред весьма своеобразно. он изрек: "От всей души желаю вам, дети мои, каждому из вас дожить до такого же счастья, до какого дожил упомянутый рядовой…"
Владимир закурил папироску и, довольный впечатлением, произведенным на сестру примитивным армейским анекдотом, напыщенно добавил:
– Вот с мыслью, что мы тоже можем дожить до подобного счастья, и шлепали мы тогда в эту самую атаку. Каждому из нас, понимаешь ли, неудержимо хотелось как можно скорее получить пулю за царя-батюшку и его августейшую семью. И я бы, пожалуй, удостоился столь высокой чести, но мне помешали…
– Кто же?
Он рассмеялся снова:
– Блохи, сестренка. Как начали, проклятущие, кусаться во время той атаки, сладу нет! Пришлось остановиться посреди поля, чтобы как следует почесаться. А солдаты – вперед и вперед. "Ура! – кричат. – В штыки!" Мы, короче говоря, победили. И, поскольку все, кто ходил в атаку, удостоились высокой чести положить животы за дело царское, а в живых нас осталось только двое, нам и дали награды!
Мать снова тревожно нахмурилась, сдвинула к переносице брови.
– Нехорошо, Владимир, – сказала она. – Ты, кажется, смеешься над такими вещами, над которыми никому смеяться не следует. Тебе не следует забывать, что и царь и священники – от самого Бога!
– А как же блохи, маменька? Ведь и они, бедненькие, тоже от Бога, – живо возразил Владимир с хитроватым выражением на лице. – И я должен к тому же заметить, что если царь один, то ведь блох – миллиарды, просто неисчислимое количество! А раз их больше, значит, они и более угодны Богу, нежели цари и священники.
– Владимир! – Елена Никаноровна величественно поднялась со скрипнувшего от резкого движения ее грузного тела венского стула, – ты, кажется мне… ты, наверное, излишне много… выпил! Разве можно так говорить о государе, о…
– Можно, маменька, можно! – как ни в чем не бывало, выпустив кольцо дыма, снова иронично улыбнулся сын. – Я ведь к вам прямиком – прямиком из окопов, а окопникам, знаете ли, все можно. Там солдат, к примеру, может хряснуть по морде офицера, а тот не может ему даже дать сдачи…
Михаил Павлович, заглотнувший под шумок еще одну рюмочку, расхохотался:
– Ну и мастер же ты, Володька, сказы сказывать! За тобой, впрочем, это еще сызмальства водилось… Думаешь, отец с матерью в военном промысле совсем ничего не соображают? Мать, может, и так. А я же никогда не поверю, чтобы русский солдат на русского же офицера руку поднял!
Владимир улыбнулся, и, не отвечая на вопрос отца, повернулся к Римме:
– Итак, сестренка, о моих бессмертных подвигах ты наслышана достаточно подробно. А теперь рассказывай о своих. Ты год назад из Ольгинской гимназии выпущена, не ошибаюсь? Что после окончания делала, чем занималась?
– Риммочка, расскажи, что ты была гордостью гимназии, – с достоинством вмешалась в разговор мать. – Она – и наша гордость.
– Пойдем, сестренка, – поднялся Владимир. – Пойдем по своим комнатам. До завтра, дорогие мои! Как же приятно все-таки снова чувствовать себя в родных стенах!..
Римма торопливо чмокнула обои родителей в щеки и, подобрав край длинного розового платья, побежала за братом. Она сразу же устремилась в свою комнату. Почему-то ей казалось, что и сейчас, как когда-то раньше, брат зайдет сначала не к себе, а к ней. Сядет на самый край постели, в ногах, и скажет как тогда, несколько лет назад, заговорщицким приглушенным голосом:
– Знаешь, Римка, кого я сегодня видел?
– Кого? – торопливо спросит она, замирая в предвкушении близкого чуда.
– Этого, – небрежно ответит он, – ну, как его называют… Домового видел, вот кого!
– Домового? – радостно запищит она. – Ну да, Володенька?
– Да, видел.
– Какой же он? Страшный? – сестра, конечно же, нисколечко не верит брату. Но порою так хочется поверить в чудо!
– Лохматый, – вдохновенно начинает врать Володя. – Бородища – во! И язык у него тоже того… шерстью обросший. Как твоя шуба. Подходит ко мне и говорит…
Брат умолкает, а потом, сделав страшное лицо, рычит:
– "А ты, – говорит, – Иванов, почему в сей час поздний по улицам болтаешься? Закон божий опять, поди, не выучил?" Остановился в ужасе, дрожат коленки, холодный пот по челу струится, аж зенки залил… Приглядываюсь я получше. И вижу: пресвятой господи, да ведь это и не домовой вовсе меня на улице в десять вечера поймал, а наш батюшка Филарет, учитель закона божьего! Только облачение на нем отчего-то задом наперед надето, да водкой за версту вперед попахивает. И рычит на меня, аки лев…
Оба они весело и долго смеются. А потом Римма, встречая на улице пьяненького отца Филарета, всегда обязательно вспоминала рассказ брата и, представив священника в образе домового, никак не могла удержаться от смеха, на что отец Филарет однажды указал ей, укоризненно покачав головой в потертой фетровой шляпе:
– Нехорошо это, отроковица, нехорошо. От осмеяния человеков недалеко до всякого блудодейства. Будь впредь смирнее и богобоязненнее, ибо горе тебе в жизни выйдет великое!
В ее памяти все это вдруг предстало столь живо, что она не выдержала и схватила брата за руку:
– Пойдем же скорее! Ну, Володенька, поспешим!
В комнате она, сбросив туфли, прыгнула с ногами на диван.
– Садись и ты, Володенька. Ну же?
– Что "ну же"? – он как будто бы даже удивился вопросу.
– Рассказывай скорее!
– Что рассказывать?
– Да про награду рассказывай! Я заметила: ты при папеньке и маменьке со мной несерьезно говорил, а просто так, дурачился. А мне все хочется знать, как на самом деле было!
Он вдруг усмехнулся:
– А тебе-то про то зачем и вообще ведать надобно? Поверь, мне и вправду хвалиться особенно нечем. Война, сестрица, всегда остается войной. Кровь, пот, блохи, которые столь маменьку возмутили… И смерть, конечно. Все время рядом с тобой – смерть. Не будем о ней, ладно? Ты мне лучше о себе расскажи. Чем год занималась? Папенька сказывал, где-то учительствовала?
– Учительствовала. Недалеко отсюда, в Петровском селе. Верст семьдесят всего. Там есть школа первой ступени, а в ней тридцать шесть ребятишек. Мне предложили туда, и я поехала.
– А потом? Как снова в Ставрополе оказалась? Или надоело заниматься новоявленным народничеством?
– Я почти перед самой войной домой приехала, – опустила почему-то глаза Римма. – И сразу пошла, как война началась, на курсы сестер милосердия. Позавчера свидетельство об окончании получила. Вот, посмотри, какое.
Она потянула с полки над головой плотный сероватый лист бумаги:
– Видишь: все только на "отлично"!
– Зачем тебе эти самые курсы сдались? – брат сердито посмотрел на Римму. В глазах его на мгновение промелькнула тревога. Не на фронт ли, часом, собралась?
Она подняла на него глаза, и улыбка сразу слетела с ее чуть припухших, словно у годовалого ребенка, губ.
– Да, Володенька, – шепотом призналась она. – Только боюсь, папенька с маменькой не пустят. Помоги мне, уговори их, а? Поможешь? – она бросилась брату на шею, прижавшись щекой к еще не сбритой дорожной щетине. Он поднял руки, молча отстранил сестру от себя. Нахмурился.
– Не дури! – сказал грубо и резко. – Война как-нибудь состоится и без тебя. Это – штука суровая, чисто мужская.