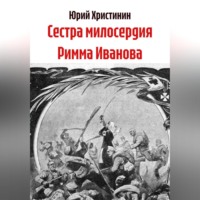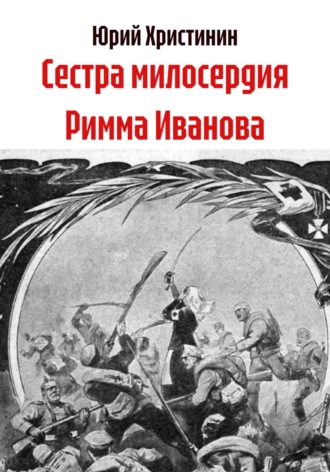
Полная версия
Сестра милосердия Римма Иванова
Пухлые губы обиженно задрожали; чтобы ненароком не разреветься, Римма отвернулась и крепко сжала кулаки.
– Когда Отечество в опасности, – сказала она замирающим голосом, – никто не вправе оставаться в стороне. Каждый должен… в меру сил своих… И я тоже должна, как все… – она совладала с закипавшими в голосе слезами. Решительно посмотрела на брата. – Я, Володя, должна быть вместе со своим народом, с нашим русским народом. Я – всего лишь частичка этого народа, и меня нельзя отрывать от него. Даже ты не имеешь на это никакого права! Когда плохо всем, почему мне должно быть лучше других? Почему, брат?
– Эк, сколь торжественно и возвышенно говорить изволите, милая сестрица милосердия! – не на шутку рассердился Владимир. – Да ты, я вижу, совсем у стариков из подчинения вышла! Глупостей вон каких в голову забрать изволила! Девчонка!
Он вскочил, заметался взад-вперед по комнате, мимо робко затихшей в диванном углу Риммы. Подцепил носком сапога оказавшийся случайно на его дороге стул, и тот с грохотом полетел куда-то в угол. Владимир опустился в кресло напротив.
– Слушай, сестренка, только не перебивай, внимательно слушай. И не сердись, я намерен говорить тебе об этой войне всю правду.
Один день из войны
Июль четырнадцатого года в Галиции выдался для русских войск трудным. После временных успехов, оказавшихся на поверку весьма непрочными, части генерала Ивана Егоровича Эрдели отступали.
Госпиталь, в котором служил Иванов, то и дело вынужден был перебазироваться с места на место. И хотя находился он, как правило, в пяти-шести километрах от линии фронта, затишья и здесь почти никогда не было. Раненые поступали с передовых нескончаемым потоком.
Хирурги, в том числе и младший врач Иванов, валились с ног от усталости. Кончился эфир, и операции приходилось делать без наркоза, стараясь не реагировать на душераздирающие крики, стоны и проклятия раненых. Инструменты даже не дезинфицировали – прооперировав одного и вытерев скальпели о тряпку, сразу же принимались за другого.
Небритые, грязные и вонючие от застарелого пота, давно не мывшиеся в бане люди, поступающие в палатку Иванова, в подавляющем большинстве были обречены. Почти всем им требовалась серьезная медицинская помощь, о которой в подобных условиях не могло быть и речи.
Бинтов в госпиталь не подвозили почти целую неделю, и потому Иванов был несказанно обрадован, завидев из окна операционной запряженную парой кляч интендантскую фуру, которая катила по дороге со стороны, прямо противоположной фронту. Вместе с прапорщиком Алешей Учинским, который был начальником службы снабжения госпиталя, тоже, между прочим, ставропольцем, они бросились к фуре.
– Все сюда! – начальственным радостным баском закричал Алеша. – Все, кто не занят на операциях, немедленно на разгрузку! Там же медикаменты, бинты. Скорее!
Крепким ударом подвернувшегося под руку камня он, не дожидаясь, пока солдат-возница принесет и подаст ему ключ, сбил с двери крохотный подвесной замок. Заскрипели засовы, и люди увидели в утробе фуры аккуратные картонные ящики, заполнявшие все свободное место. Раскрыв один из них, Алеша в недоумении отступил назад:
– Что это?!
Иванов тоже склонился над ящиком, но не смог произнести в ответ ни единого слова: ящик был полон крохотных нательных иконок на желтоватых латунных цепочках.
Вскрыли второй ящик, третий, пятый… Потом начали вышвыривать их из фуры прямо не потрескавшуюся, давно не видавшую дождей землю. Ящики лопались, не выдерживая удара, и из них сыпались на землю иконки, иконки, иконки… Тяжело дыша, с раскрасневшимися потными лицами, офицеры стояли перед целой горой икон.
– Эх-ма, мать Пресвятая Богородица! – вздохнул за их спинами солдат-возница. – За нонешний день вторую фуру энтого вот святого груза привожу… А там, на станции-то, еще два вагона… Говорят, подарок нашему брату от самой государыни. Чтоб про Бога мы туточки не забывали. С нами крестная сила!
Солдат перекрестился и снова вздохнул.
– Алеша, дай, пожалуйста, команду, чтобы офицерские простыни срочно распустили на бинты, – попросил друга Иванов. – Иначе – просто не выдержим. Вон к нам, кажется, опять везут раненых.
С очередной партией доставили раненного в грудь полковника – еще сравнительно молодого человека, лет около сорока. Он был без сознания, метался, бредил, тяжко и матерно ругался. Его уложили на стол, санитары навалились на руки и ноги, чтобы удержать оперируемого в относительно неподвижном положении.
Иванов, натянув перчатки, приступил к операции и довольно скоро извлек из предплечья снарядный осколок изрядных размеров.
– Отнесите его, пожалуйста, в мою палатку, – попросил он, окончив работу, – после подарю его полковнику. Туда же доставьте оперированного.
И тут вдруг случилось неожиданное: чахлый лесок, который столь символически отделял госпиталь от линии фронта, казалось, взлетел на воздух. Раздался грохот, сквозь кроны деревьев прорвались вверх густые клубы дыма. Заходила ходуном земля, посыпались куски разлетевшихся стекол. Это был первый массированный залп батареи противника, которая не только сумела скрытно просочиться на позиции за линией фронта, но и успешно разместилась там. Второй залп сорвал саму палатку, и Владимир увидел, как лежащий на столе очередной раненый полетел, страшно раскинув безжизненные руки.
Самого Иванова отбросило в другую сторону. Спустя несколько минут он с трудом поднялся, ощущая странный, прерывающийся звон в ушах и пошатываясь. "Кажется, немножко контузило, – подумал он почему-то совершенно безразлично. – Видно, немцы решили нас обработать по-настоящему".
– Володя! – к нему вбежал прапорщик Учинский. – Что с тобой? Почему молчишь? Что случилось, Володя? Господи, да ты же весь в крови! Бежим, Володя! Скорее, умоляю тебя!
– Бежим… – ответил Иванов и подумал: "Что же это они, гады, делают? Ведь по госпиталю бьют, по красным крестам… И почему наши молчат?"
И тут ему вспомнилось, как пару дней назад один умирающий солдат на его вопрос о самочувствии, едва шевеля холодеющими губами, ответил:
– Ничего… только вот… нам бы патронов побольше давали, ваше благородие… А то по семь штук в сутки на брата… по семь… по семь штук…
Он так и умер с этими словами на устах: "По семь… по семь штук, ваше благородие…"
Вся территория госпиталя мгновенно превратилась в кромешный ад: ржали метавшиеся лошади, слышались крики офицеров и стоны раненых, во всем этом хаосе тонули собственные голоса Иванова и Учинского. Потом из лесу показались немцы…
– Бежим, Володя! – снова закричал Учинский, хватая его за рукав. – Нам все равно сопротивляться нечем, патронов нет… Скорее туда, в лощину! По ней, даст бог, доберемся до своих. Иначе – конец!
– Там раненый, – бессмысленно глядя на друга, ответил Владимир. – В моей палатке. Полковник…
Они вдвоем подняли грузное тело офицера и спустились в лощину. По самому ее дну пробегал крохотный, едва заметный, неторопливый ручеек. Если вырыть на его пути ямку и минуту-другую подождать, пока в нее набежит вода, то можно попить и даже умыться. Учинский снял с пояса тесак и вырыл ямку. Они с наслаждением побрызгали лица водой, с тревогой прислушиваясь, как там, наверху, стихает грохот канонады. Оба дрожали от только что пережитого ужаса.
– Неужели, – спросил наконец Владимир, – кроме нас никто не уцелел? Надо бы подняться, взглянуть, а? – Он попытался усилием воли унять мелкую противную дрожь, охватившую все его существо, но ничего не смог с ней поделать: это был страх, самый обыкновенный человеческий страх.
– Не выдумывай, – хрипло отозвался Алексей. – Теперь все равно дела не выправить. Царапина у тебя совсем засохла… Словом, будем то темноты сидеть тут, а там – один бог ведает! Дай лучше и полковнику воды. Он, кажется, приходит в себя?
Раненый застонал, облизал сухие губы, приоткрыл настороженные глаза.
– Вы ранены, господин полковник, – склонился к нему Владимир. – Пришлось сделать операцию. Осколок я вынул, не беспокойтесь. Вы будете жить. А сейчас спите.
– Спасибо, – едва слышно проговорил полковник. – Я так вам… так… – и закрыл глаза, сознание вновь его покинуло.
Потом всю ночь напролет они шли по ложбине, таща на шинели тяжеленное, словно каменное, тело полковника. И лишь часов в пять утра, когда уже начинал брезжить рассвет, их окликнули часовые передового охранения Самурского пехотного полка.
Его командир – полковник Казимир Альбинович Стефанович – выслушал рассказ Учинского и Иванова о том, что произошло вчера во второй половине дня в нескольких километрах от линии фронта.
– Ах, какие сволочи! – бормотал он, меняясь в лице. – Что творят, что творят! Ну, да ничего, мы с ними и за это еще поквитаемся, по полному счету заплатить попросим! А только тяжко… А что ваш полковник? Он жив?
– Жив, – ответил Владимир, – хотя, признаться, и плох. Мы передали его санитарам, надо заменить повязку.
Стефанович поднялся.
– Что ж, господа, – сказал он тихо. – Вы сделали доброе дело… Давайте пройдем к полковнику, посмотрим.
Едва взглянув в лицо раненого, он тихо присвистнул:
– Однако, если с ним все обойдется, вы можете рассчитывать на великую благодарность и признательность! Имеете ли честь знать, кто находится перед вами, кто обязан вам жизнью?
– Никак нет, ваше превосходительство! – ответил Иванов. – Смеем только полюбопытствовать. Вы, как видно, знакомы с полковником?
– Это же князь Василий Борисович Тихвинский, Российского Генерального штаба инспектор… Весьма влиятельное лицо, да, к тому же, и личный друг нашего командующего фронтом. В былые времена мы вместе с ним проходили курс в одном корпусе. Давненько, правда.
Стефанович замолчал, разглядывая серое лицо бывшего своего однокашника. А потом повернулся к едва стоявшим на ногах от усталости офицерам:
– Стало быть, господа, от вашего госпиталя, как я понимаю, ничего не осталось? Больно, да что поделаешь… Посему считаю, что дальнейшую свою службу вы сможете проходить в моем полку – нам нужны и медики, и тыловики: потери, к сожалению, за последние недели были более заметными, чем предполагали в Генштабе. Согласны, господа, с моим предложением?
Оба молча кивнули в знак согласия.
– Вот и хорошо, – повернулся к двери командир полка. – В армии вопрос я улажу сам, об этом не извольте беспокоиться. Явитесь к своему новому начальству и доложите о том, что готовы приступить к исполнению должностных обязанностей. Всего вам доброго, господа офицеры!
Спустя неделю пришел приказ командующего фронтом: по согласованию с фронтовой Георгиевской думой за мужество, проявленное при спасении жизни старшего начальника, прапорщики Алексей Учинский и Владимир Иванов удостоены чести быть кавалерами ордена Святого Георгия Победоносца. Сообщая им об этом, Стефанович добавил от себя: по просьбе князя он счел возможным предоставить каждому по две недели отпуска с выездом к месту проживания.
А еще примерно через месяц (они тогда еще не успели уехать в отпуск) к ним в палатку заглянул высокорослый человек с темными волосами, выбивающимися из-под полевой зеленой фуражки.
– Сидите, господа, – он жестом усадил попытавшихся встать перед старшим по званию прапорщиков. – Могу ли я видеть господ Иванова и Учинского?
– Это мы, – ответил Алексей, который первым узнал гостя.
Полковник широко улыбнулся, протягивая им сразу обе руки.
– Как же я рад видеть вас, господа! – сказал он. – Как я признателен вам за все, что вы для меня сделали! Позвольте представиться: полковник Тихвинский, Василий Борисович. Вот, благодаря вам, живой и даже стоящий на ногах. Прошу вас, господа, оказать мне великую честь считать себя отныне и навсегда, до самой гробовой доски, вашим искренним и верным другом.
Он подробно расспросил офицеров обо всех мельчайших обстоятельствах своего спасения. И, уходя, снова долго тряс ими руки.
…В комнату Риммы с улицы залетали ночные бабочки, и Владимир, осторожно прикрыв окно, с улыбкой превосходства посмотрел на потрясенную его рассказом сестру.
– Вот видишь, – сказал он, – какова она, война, на которую ты так рвешься! И никто не сможет облагородить ее, сделать лучше и романтичнее, ибо она бесчеловечна по самой своей сути. Туда тебе хочется, сестрица? Туда?
Римма молчала, глядя на него глазами, зрачки которых от всего услышанного расширились.
– Война – дело кровавое, чисто мужское… Обойдется она, сестрица, без тебя, – желая хоть как-то смягчить произведенное впечатление, сказа он, положив руку ей на плечо. – Ну, теперь-то ты довольна рассказом? Я поведал тебе об этой награде все без утайки, как ты настаивала.
– Так ты приехал в Ставрополь вместе с товарищем, да? – меняя тему разговора, спросила она.
– С Учинским. Мы с ним на фронте все время вместе были. Завтра он обещал прийти ко мне. Хочешь, познакомлю? Весьма симпатичный и приятный молодой человек…
– Зачем же? – вспыхнула сразу она. – Мне до его симпатичности и приятности нет никакого дела!
– Еще будет дело! – уверенно засмеялся Владимир. – Скоро будет! Вон какая ты красавица, совсем невеста стала! – Он прошелся по комнате и, легко вспрыгнув, уселся на подоконник. – Ну, а теперь твой черед рассказывать. Говори о себе. Я – молчу и слушаю! Что это за дыра, в которую ты ездила? Петровское село, говоришь? Давай же, рассказывай, я тоже умираю от нетерпения!
Школа в Петровском селе
Степное село Петровское в Ставропольской губернии – тихое и старозаветное. Ничем особенным оно не примечательно. Разве тем только, что кабаков уж очень много. Один из них – с призывным названием "Пей другую!" – расположился непосредственно напротив входа в школу первой ступени, куда и была направлена учительствовать после окончания Ольгинской гимназии с педагогическим уклоном Римма Иванова. Навстречу ей из покосившейся одноэтажной школы вышел маленький и седенький, но крепкий кривоногий старичок в засаленном, словно спецовка железнодорожного осмотрщика, вицмундире по ведомству народного просвещения.
– Заведующий школой Коростылев, – мрачно представился он. – Митрофан Васильевич. Впрочем, если душе угодно, можете величать меня просто дедом Митрохой – так меня в Петровском больше, кажется, знают… На работу приходите завтра, часиков в восемь утра. На сем имею честь откланяться и пожелать вам всего самого доброго!
И он пересек улицу, зашел в трактир. Возница тем временем бесцеремонно сбросил ее коробки и узлы с книгами и вещами на землю, сказав: "Прощевайте, барышня, дай вам бог доброго жениха да здоровья!" – и, поскольку расчет получил раньше, без лишних колебаний укатил.
Она в растерянности смотрела на открытую дверь трактира и ждала. О работе заведующий сказал, а вот куда ей определиться на жительство?
Долго пришлось ждать. Наконец, Коростылев вышел из трактира, огляделся по сторонам, а потом, словно заметив что-то особо ценное под ногами, несколько минут, сгорбившись, пребывал в раздумье. Вполне вероятно, что он хотел наклониться, но у него не было уверенности в том, что после этого удастся снова принять изначальное положение. И, заметив это, Римма сообразила: господи, да ведь Митрофан Васильевич мертвецки пьян! Она подбежала к нему и, чувствуя волну поднимающейся в груди неприязни к этому человеку, спросила:
– Митрофан Васильевич, вы меня помните?
Он серьезно посмотрел на нее, а потом, довольно засмеявшись, зажмурил один глаз.
– Д…воится, – небрежно пояснил он. – О… одним сподручнее. И зачем человеку два глаза? У вас тоже два глаза?
– Я – новая учительница. Я сегодня приехала. Мне жить негде.
– Да, – тянул он свое. – Вы правы. Тело, погруженное в воду или иную какую жидкость, вытесняет… А вы… что от меня хотите? Вы кто такая?
Коростылев глупо улыбнулся:
– По…пожалуй, я прилягу. Р…разморило что-то, понимаете ли.
И, завернув на нетвердых ногах за угол трактира, он немедленно привел свое намерение в действие, растянувшись прямо на голой земле.
И тут Римма не выдержала, заплакала.
Ее подобрала около девяти вечера возле здания школы какая-то пожилая добродушная женщина.
Назвалась Ворониной Агриппиной из мещанского сословия, вдовой. Отвела Римме в своем довольно большом, но почти пустом и потому неуютном доме комнату, попили вместе чайку, сразу же сошлись в цене.
– Ну, дочка, – ставя на стол семилинейную керосиновую лампу и собираясь уходить, хозяйка повернулась к Римме, – не плачь, почивай спокойно. А на того Митроху, старого кобеля, ты наплюй и внимания не обращай. Он у нас в Петровском – самый первый пьяница: пустой человек, а не учитель. Его даже мужики просто Митрохой величают.
Агриппина состроила скорбное лицо:
– Разве ж можно учителю так вот пить безмерно горькую? В летошний год ни одного дня его тверезым не видела. И ты, дочка, не скоро, наверное, увидишь… Да и робить с ним, таким пьяницей, поди, что на каторге в железах камни таскать…
Но Римма очень скоро увидела Коростылева трезвым. Утром, когда она прибежала в школу, он уже стоял в коридоре.
– Здравствуйте, Митрофан Васильевич. Я пришла. Не опоздала?
Он молча и тупо уставился на девушку.
– Вы меня не признали, Митрофан Васильевич? Я – новая учительница. Иванова Римма… Михайловна. Я приехала вчера из Ставрополя.
– А… – В мутной голове Коростылева, видно, вспыхнула на мгновение какая-то лампочка, впрочем, не особенно яркая. – Припоминаю… Вы уже устроились? Скоро эти придут… дети, значит. Разбойники с большой дороги, сплошь, будущие уголовники! Что читать им будете?
– Я, – смутилась она, – могу из русской литературы, естественной истории, истории России, географии. Немножко по языкам.
– Языки нам тут ни к чему, – усмехнулся Коростылев. – У нас не гимназия, благодарение богу. А вот литературу вы им, пожалуй, и вправду сегодня почитайте. А то я, признаться, что-то не могу. Приболел, мабуть. Жар, кажется, откуда-то на мою грешную головушку свалился.
Он тяжко вздохнул.
– Но я не знаю, на чем вы остановились на предыдущих занятиях. О чем читать? – забеспокоилась Римма.
– Какая разница? – философски спокойно спросил Коростылев. – Ни на чем мы не остановились. Почитайте им что-нибудь, целиком на ваше усмотрение. К нам сюда начальство, благодарение богу, отродясь дороги не ведало, так и нет нужды особо усердствовать. Что захотите, то и читайте.
Он помолчал, пожевал сероватыми тонкими губами:
– А как надоест, так и отпустите с миром этих разбойников.
Он замолчал, а потом посмотрел на Римму с несколько даже виноватым видом.
– Я, кажется, вчера того… ну, перехватил несколько через край? Не был ли я пьян, чего доброго? – прошептал он. – Видите ли, госпожа Иванова, как-то странно случилось, такая вот, раздери ее надвое, оказия!
"Господи! – подумала она почти с отчаянием. – И зачем он только все это мне говорит? – Она отвернулась в сторону. – Может, думает, что я инспектору доложу, а то попечителю?"
Вслух ответила:
– Что же делать, Митрофан Васильевич, это иногда с каждым может случиться. у нас тоже как-то, когда я еще маленькой был, с папенькой также получилось… Вы не переживайте.
Он поморщился, недоуменно вскинул на нее серые колючие глазки. Потом внезапно положил руку на сердце и заскрипел зубами.
– Что с Вами, Митрофан Васильевич, вам плохо? – не на шутку переполошилась Римма. – Случилось что?
– Сердце… Иногда, знаете ли, дает в некотором роде сбои…
– Да вы присядьте, Митрофан Васильевич, вот сюда, пожалуйста. А я живо за лекарем сбегаю. Где он у вас живет? Вы только сидите, не вставайте…
Он поморщился снова.
– Не надо, голубушка, – сказал покорно. – Я старый и сам свою хворь ох как распрекрасно знаю. Нет ли у вас на этот случай, – он поднял на нее снова свои серые глазки, – нет ли у вас, ну… Нескольких рублей, что ли? В долг, разумеется, взаимообразно? На медикаменты разные.
– Конечно же, Митрофан Васильевич. – Она торопливо щелкнула замочком сумочки. – Вот, маменька дала мне с собой в дорогу целых тридцать рублей. Сколько вам надо?
– Десяти, пожалуй, хватит, – немного подумав, ответил небрежно Коростылев, переставая стонать. – Я скоро отдам, вы, госпожа Иванова, не волнуйтесь. Вчера, надо правду сказать, весь из себя того… пропился, понимаете ли. А теперь вот… болит все!
Взяв деньги, он не положил их в карман, в зажал в кулаке, словно кто-то намеревался их у него отнять, вздохнул, а затем… Затем, как и вчера, равномерным неторопливым шагом пересек улицу, потревожив дремавших возле школы гусыню с гусятами, и отправился в трактир. "Неужели там продают и лекарства?" – удивилась про себя Римма.
Через час, когда она усадила человек двадцать с любопытством поглядывающих на нее детишек на лавки, скрипнула дверь, и на пороге вырос Коростылев. Он пошарил глазами по комнате, а затем, увидев маленького щупленького мальчишку, грозно приказал:
– Неподымка, разбойник с большой дороги! Подойди ко мне!
Коля Неподымка побледнел, встал и направился явно не похожей на разбойничью походкой к заведующему.
– Там, на окне, линейка, – распорядился Коростылев.
Остановившись перед ним и громко хлюпнув носом, мальчишка замер.
– Ей-богу, господин учитель, – заскулил он, – ей-богу же говорю, что нет маманьки ничего боле… Совсем ничего боле нет у маманьки…
– Линейку! – рявкнул Коростылев. Неподымка затрясся от страха и, заранее всхлипывая, подал своему грозному наставнику толстую и увесистую сосновую линейку.
– Руки! – так же коротко распорядился Коростылев. – Руки, выродок!
Ровным счетом ничего не понимая, Римма смотрела, как покорно мальчишка положил на ее учительский стол крохотные, судорожно вздрагивающие руки, ладонями вверх. "Зачем это? – подумала она. – Для чего?"
И тут она увидела, как линейка своим широким ребром опустилась на ладони дико завизжавшего мальчика – так кричит заяц, попавший в капкан.
– Будет знать твоя маманька, как учителя не уважать! – крикнул Коростылев. – Будет знать, жадюга чертова!
Линейка рассекала воздух снова и снова, опускаясь уже не на руки, а на плечи и спину мальчишки, который свалился прямо возле стола и уже не в силах был кричать, а только как-то странно и страшно попискивал. И только тут Римма пришла в себя.
– Стойте! – закричала она, сама не узнавая своего голоса. – Стойте, умоляю вас! Разве так можно? Это же дикость, настоящая дикость!
Линейка в руке Коростылева замерла в воздухе. Он сердито посмотрел на Римму, криво усмехнулся и вышел из класса.
Она с великим трудом успокоила мальчика, усадила его на место. Было до боли жаль этого маленького несчастного человечка в старенькой холщовой рубашонке, из ладоней которого сочилась кровь.
– Пойдем отсюда, Коля, – сама едва удерживаясь от рыданий, она взяла мальчишку за локоть. – Пойдем, милый, со мной.
Неподымка послушно и торопливо встал.
– Где у вас в селе аптека? – спросила она. – Пойдем туда.
Старый немец-аптекарь равнодушно перебинтовал Колины ладони, предварительно щедро залив их коричневой настойкой йода.
– Только не пишши, малшик, – просил он. – Мой не любит, когда малшик пишшит…
Вечером она снова увидела Коростылева, стоящего все под той же вывеской "Пей другую!" Он, конечно, опять "пил другую", и опять был крепко пьян, но все-таки не до такой степени, чтобы не узнать учительницу.
– А, – пробормотал он. – Госпожа Иванова, значит, тоже сюда пожаловали! Хе-хе! – Он прикрыл один глаз. – Как вам понравились эти самые… разбойники с большой дороги? – Он шумно высморкался, вытерев нос посредством нечистой своей ладони. – А вы того… Кто была ваша матушка? А ваша дочь уже того… замужем? – Он засмеялся, а потом вновь вдруг сделался до чрезвычайности серьезным, заложив правую руку за отворот сюртука. – А вы говорите, что были в Америке? Я – не был! И горжусь этим. Да! Мне и здесь хорошо.
До самой полуночи, всхлипывая, как обиженный трехлетний ребенок, проплакала она на своей кровати. Нет, не так, совсем не так представлялось ей начало учительской карьеры! Хотелось чего-то светлого и радостного, хотелось, чтобы как у поэта, – "сеять разумное, доброе, вечное". А пришлось вместо сеяния встречаться с пьяным заведующим, в грамотности которого она сама уже начала сомневаться.
Каждое утро начиналось одинаково. Митрофан Васильевич появлялся в школе злой, изрядно опухший от водки, с трясущимися руками, которые он то и дело вытирал о собственный галстук, и тот от многократного употребления лоснился и блестел, словно кусок шерстянки, которым драят сапоги.
– На молитву! – командовал Коростылев хриплым голосом. – Небось, и в Бога никто из вас не верует? А ну-ка – "Отче наш!"
Все покорно вставали.
– Отче наш, иже еси на небеси… – равнодушными голосами причитали маленькие покорные богомольцы.
– Плохо, – закрывая один глаз, резюмировал Коростылев. – Очень плохо! В Бога, видать, совсем не верите, такие-сякие! Давайте-ка все вместе да сызнова!