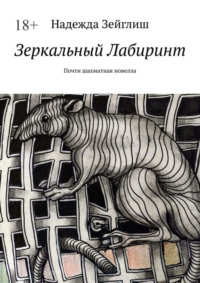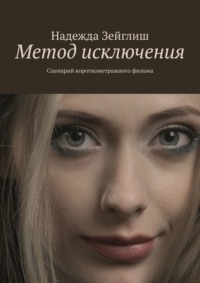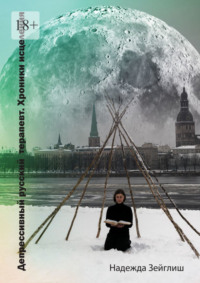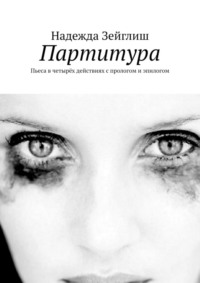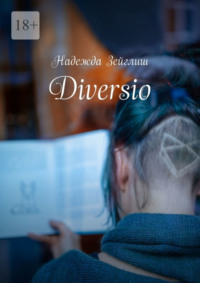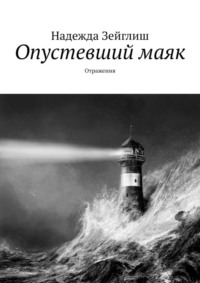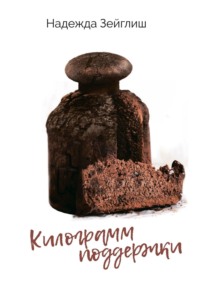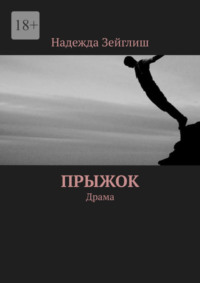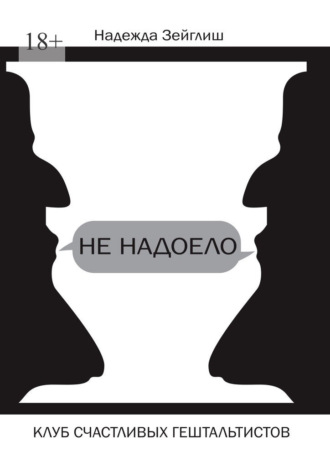
Полная версия
Не надоело. Клуб счастливых гештальтистов
Для ответа на этот вопрос снова процитирую Воллантса:
«Задача гештальт-терапевта состоит в том, чтобы установить нужную атмосферу, которая сделает возможным обретение нового опыта и нового понимания, а не показать клиенту, что его способ конструирования реальности неадекватен и ошибочен».
Под атмосферой я понимаю такое качество терапевтических отношений, которое будет способствовать развитию актуальной способности его участников к контакту: и клиента, и терапевта.
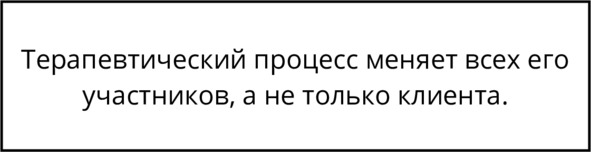
К этой мысли я еще вернусь в III части книги, посвященной этапам нашего «большого пути» от студента до супервизора. Пока сформулирую свой вопрос: как стиль и методика подготовки гештальт-терапевтов влияют на способность будущих профессионалов создавать атмосферу, способствующую обретению нового опыта? Или по-простому: как учить так, чтобы…
Прежде чем ответить на этот вопрос, хорошо бы отмотать время назад и вспомнить себя в роли студента. Если вы прямо сейчас проходите обучение, то отматывать не придется. Просто скажите, как себя чувствуете? А как хотелось бы? И что для этого нужно?
А если вы супервизор и это к вам приходят студенты? На что вы опираетесь в своей работе? Что замечаете? Что и как говорите коллегам, которые к вам обратились?
Есть еще очень важный пласт опыта, который не стоит сбрасывать со счетов, когда речь идет о подготовке студентов к самостоятельной работе: это клиентский опыт. Вспомните свой самый удачный и самый неудачный опыт. Что именно сделало его таким? Я зря задаю эти вопросы здесь? Мне стоило приберечь их для обещанной III части книги? К этапам профессионального становления мы еще вернемся, но в главе, посвященной влиянию стратегий обучения на терапевтические отношения, важно сказать следующее: то, через что терапевт прошел в процессе своего обучения, будет определять маршрут, по которому он поведет своих клиентов, начиная работу.
С годами он пересмотрит все, чему его учили, но до этого еще надо дожить. Поэтому так важно, кто является учебным супервизором и какие отношения он выстраивает со своими супервизантами.
Живое – изменчиво. Терапия – это про изменения. Если наша работа – живой процесс, а не его имитация, то изменятся все его участники: и клиент, и терапевт. То, что годилось вчера, может оказаться никуда не годным сегодня. Скажу еще радикальнее: мы вчерашние не годимся для сегодняшней встречи. Без готовности к изменениям настоящей встречи не случится. Если терапевт не меняется, значит, он имитирует свое присутствие в сессии, как имитируют оргазм.
С чего начинается терапия? С рассказа клиента о том, что его волнует? Или с нашей настройки на то, как мы его встретим? Клиенту хочется быть понятым и услышанным.
• Достаточно ли одного желания?
• Как устроен процесс понимания?
• Кто и за что в нем отвечает?
Поделюсь с вами своим видением начала отношений. Мы слушаем не для того, чтобы расшифровать сказанное из нейтральной позиции, а чтобы впечатлиться услышанным. Если рождается отклик, значит, клиент достиг нас своим рассказом!
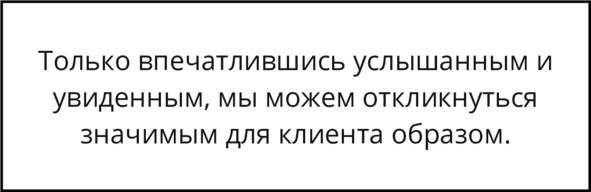
Что я имею в виду, говоря об особом, значимом для клиента отклике? Прежде чем ответить, спрошу: знакома ли вам фраза: «Я тебя услышал»? Вы поделились чем-то важным, а в ответ только эти три слова. Интонация ровная, мимика нейтральная. Как вы себя почувствовали, получив такой ответ? Случалось ли вам самим говорить такое? Если да, то с каким чувством к собеседнику?
Не думаю, что клиенты приходят к нам за чем-то похожим. Они хотят нас впечатлить, ибо нейтральность, воспринятая как равнодушие, – разрушительна. Если терапевт реагирует, значит, отношения имеют шанс на успех. Клиенту важно знать, что со мной происходит, когда я слушаю его. Как он об этом узнает? Иногда достаточно видеть мое лицо. Оно не нейтрально. На нем не застыла милая доброжелательная улыбка. Бывают моменты, когда больно до слез. Восторг, умиление, гнев, сожаление, печаль – чего только не читали клиенты на моем лице.
Человек полон нереализованных возможностей.
Л. С. ВыготскийБыть, присутствовать – значит способствовать тому, чтобы возможное становилось реальным. Убегать из контакта в нейтральность и отстраненность безопасно и «научно», но для развития терапевтических отношений – губительно.
Что происходит прямо сейчас, когда вы читаете это предложение? Когда я писала эти слова, то думала о вас, о том человеке, который их прочтет. Мне радостно на душе и даже немного щекотно, когда я представляю себе нашу встречу. Я сижу сейчас в плетеном кресле на залитой солнцем террасе, спиной к солнцу. Его тепло проникает сквозь спинку кресла. Голову я прячу в тени, набирая текст на телефоне. 21 сентября, но тепло как летом. Субботнее утро. Я в отпуске. Пишу про терапевтические отношения. А вы прямо сейчас про них читаете…
Я не знаю тех обстоятельств, в которых вы окажетесь, читая эти строки. Что почувствуете? О чем подумаете? Что вам захочется сделать или сказать? Я ничего не знаю, но все равно уверена: что-то произойдет, что-то изменится. Я пишу эту книгу в надежде на то, что наша встреча будет полезной и мы как собеседники будем интересны друг другу. Почему я в этом уверена? Потому что мы коллеги! Мы любим свою работу. Мы с интересом и трепетом встречаем тех, кто обращается к нам за помощью. Мы знаем, что человек сложен и глубок. Нам есть чем делиться.
В этой главе я ссылалась на книгу Джорджа Воллантса «Гештальт-терапия. Терапия ситуации». Перевод и издание – Интегративный институт гештальт-тренинга. Материалы к семинарам. Не обошлось без отсылок и к Фредерику нашему Перлзу: «Эго, голод и агрессия» – это классика!
В следующей главе я поделюсь своей идеей о том, как трансформировать позицию наблюдателя, оценивающего цикл контакта клиента, в бытие вместе. Давайте шаг за шагом пройдем этот путь. Я бы хотела узнать, что из написанного вам отзывается и с чем вы не согласны.
Глава 2. Осторожно, правильный цикл контакта!
Когда будет записываться аудиоверсия книги, я попрошу название этой главы прочесть с интонацией диктора метрополитена: «Осторожно, двери закрываются!» Грустно осознавать, что изначальное перлзовское «пресечение возбуждения» вошло в обиход как «срыв контакта». Спасибо Яне Ларионовой за тонкие комментарии и отсылки к первоисточнику. Ее вдумчивая и кропотливая работа над переводом ПХГ способствует глубокому переосмыслению такого важного для всех гештальтистов текста. Сравните: «срыв контакта» и «перенаправление возбуждения»? Пора бы уже отказаться от этих «срывов», не находите?
Я предлагаю пойти дальше и посмотреть, чем можно их заменить. Для меня срывов не существует, зато есть форма контакта. Есть способ построения отношений, и есть цена, которую мы платим за свой способ урегулирования отношений с миром. Форма контакта не дается нам готовой и не берется из учебника. Она находится, нащупывается в обстоятельствах нашей жизни.
Начнем с того, как «прерывания контакта» преподносятся начинающим терапевтам. Я приведу цитаты из рекомендованной студентам книги «Интегрированная гештальт-терапия» Ирвина и Мириам Польстер. Не буду утомлять вас цитатами, ограничусь двумя фрагментами, посвященными интроекции и конфлюенции.
«Работа с интроекцией состоит в том, чтобы научиться не проглатывать, а жевать в прямом и переносном смысле, избавиться от нетерпения, лени и жадности. Неприятие неизбежных различий на самом деле является непереносимостью агрессии, которая нужна для обновления организма. Нетерпение заставляет человека немедленно все сглатывать. Лень не позволяет делать работу, требующую слишком больших усилий. Жадность старается получить как можно больше, как можно быстрее. Все эти тенденции ведут к интроекции».
«При конфлюенции человек плывет по течению, это требует небольших затрат энергии при личном выборе. Ему нужно лишь немного помогать течению, которое подхватывает его и несет. Этот поток может быть не тем направлением, по которому он хотел бы идти, но его случайные товарищи считают выбранное направление верным, он тоже принимает его за правильное. Кроме того, ему это недорого стоит, как же он может жаловаться?»
Вот в таком ключе описаны прерывания, откуда они берутся и как выглядят люди, которые так типично строят свое поведение. Хочу с вами поделиться своей реакцией на эти цитаты: «Лень, жадность, нетерпение, плыть по течению – это все так неправильно. Но ничего, мы сейчас вам объясним, как надо!»
Получается, что фигура гештальт-терапевта властная, поучающая, а отношения – директивные: «Я знаю, как выглядит правильный, здоровый цикл контакта. А у тебя тут вот прерывание, твой цикл контакта неправильный, нездоровый. И мы сейчас будем работать с твоими прерываниями, мы будем работать с твоими сопротивлениями. И я научу тебя проходить цикл контакта правильным и здоровым образом, и я избавлю тебя от твоих прерываний. А что правильно, что неправильно, что здорово и не здорово, что хорошо и что плохо, знаю, конечно же, я, потому что…»
Да, почему? Хороший вопрос! Как бы вы ответили?
Я, конечно, сгущаю краски, но, к сожалению, та позиция, которая отчетливо проявилась в процитированных отрывках, встречается не так уж и редко. Есть, наверное, люди, которые любят, когда с ними общаются в таком стиле. Может, кто-то скажет в ответ: «Да-да, ужас-ужас, вы открыли мне глаза! Я так неправильно все делаю. Мне надо все исправить. Помогите!»
Мне такой подход и такие отношения не близки. Человеческий опыт – это не дефект, не срыв и не ошибка. То, как человек контактирует со своим миром, – это его адаптация к обстоятельствам жизни. Для меня адаптивность – важнейшее свойство нашей психики. Я глубоко убеждена в том, что человек интуитивно находит оптимальный способ взаимодействия со своим окружением. Он идеален для тех обстоятельств и тех ресурсов, которые у человека на тот момент имелись. Важно это признать. Восстанавливая доверие к адаптивности человека в прошлом, мы способствуем укреплению его доверия к себе в настоящем.
Когда я сижу и молчу в тряпочку, на гештальтистском языке – ретрофлексирую; когда у меня болит голова, потому что я себя «душу» и «спазмирую», – все это хорошо и правильно, даже если я страдаю. Страдания не являются признаком плохой адаптации. Они гораздо в большей степени свидетельствуют о дефиците ресурсов.
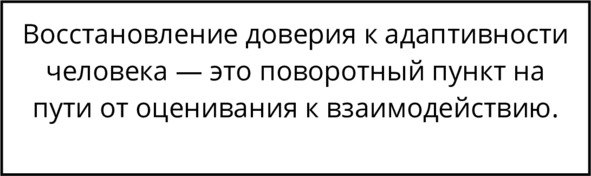
Может быть, я уберу потом эти помпезные рамочки, но пока мне хочется выделять главное именно так.
Существуют обстоятельства, в которых «душить себя» и соматизироваться является наименьшим злом, а откровенно высказываться и конфронтировать с окружением – опасно и дезадаптивно.
Интерес к терапии говорит о том, что изменения назрели. То, что было идеальным адаптивным решением там и тогда, перестает быть таковым здесь и сейчас. Если человек начинает просматривать списки специалистов, спрашивать рекомендации и думать: «Куда? К кому?» – значит, пришло время перемен.
Представьте, что мы живем в интерьере, который нам не нравится. Мы ведь затеем ремонт тогда, когда у нас на это будут средства. Если мы выкинем старую сантехнику, выломаем изгнившие рамы и не купим новую сантехнику, не вставим новые окна, то как мы будем жить?
С ремонтом всем понятно: не выламывай старые рамы, пока нет денег на новые. А с терапией? Аналогично! Нужно накопить сил для изменений. Только человек сам изнутри может прочувствовать, когда пора. Люди, которые ищут наши контакты и записываются на консультацию, – готовы к переменам. И как мы их встретим? Как мы будем относиться к их опыту и способу выстраивать отношения? Высокомерно и критично? Это ошибки, это срывы, это прерывания – или как-то иначе?
Мне хочется, чтобы мы относились к опыту клиента с уважением. С уважением и признанием, что это самый лучший выбор. Там и тогда. А сейчас хочется чего-то еще. Сейчас прежний выбор перестал устраивать.
Давайте поговорим, как выстраивать работу с этими «прерываниями»? Какие есть шаги, этапы? Что, зачем, в какой последовательности можно делать? За годы практики у меня выработалась определенная последовательность, которой я хочу с вами поделиться. Этапы работы я буду называть шагами.
7 шагов:
• Адаптивность
• Потребности
• Ограничения
• Утраты
• Горевание
• Уникальный эпизод
• Новая адаптивность
Начало: адаптивность и потребности
• Какая потребность удовлетворялась таким способом?
• Что человек получал?
• От чего избавлялся (защищался)?
• Что важное становилось возможным благодаря «выбранному» поведению?
Мы уже говорили с вами об оптимальности всех сделанных выборов. Самое главное – обеспечить первичные потребности, приспособиться и выжить. Если человек пришел к нам, значит, с этой задачей он справился. Наш контакт и наши отношения важно начать с признания того, что важные потребности на тот момент и в тех обстоятельствах можно было удовлетворить только так.
Для меня жизненный путь человека – это всегда лучшее из возможного, даже если он о многом сожалеет. Мы часто недовольны своими выборами и решениями в прошлом, оценивая их с позиции настоящего. Но не зря говорят, что задним умом всякий крепок.
Что делать, когда человек приходит и вываливает на вас список жалоб и самообвинений: «У меня низкая самооценка. Я замкнутый и необщительный социофоб. Я не держу обещания, прокрастинирую, подвожу других. Я порчу жизнь другим и себе»? Важно не оценивать то, что человек делает и говорит, а помочь ему увидеть во всем этом способ удовлетворения важнейших потребностей.
Примеры?
Аутоагрессия, упреки, самообвинения, жесткая необоснованная самокритика – все это может быть продиктовано потребностью в безопасности и в принадлежности. «Со мной могут поступить жестоко, меня могут отвергнуть. Скажут, что таких детей мы не любим, вот иди успокойся, тогда приходи. Значит, нужно срочно привести себя в соответствие с выдвигаемыми требованиями, а то может случится непоправимое!»
Когда мы видим устойчивый поведенческий паттерн, надо искать потребность, которую можно было удовлетворить только так.
Важно обнаружить, что человек получал таким образом? Принятие и безопасность: «Ты наш, ты хороший, мы тебя любим»?
От чего защищался? От отвержения, угроз, агрессии, насилия, пристыживания, унижений?
Потребность в безопасности – первична. Она перекрывает все остальное. Пока безопасность не обеспечена, ни о чем другом речи быть не может. Поэтому всегда начинаем с потребностей: что ценное было возможно благодаря «выбранному поведению»?
Слово «выбранное» я поставила в кавычки, потому что приспособление в целях выживания выбором не является. Гибель – не вариант.
Продолжение: ограничения, утраты, горевание
• Чего человек был вынужден избегать?
• От чего отказываться?
• Что было запрещено?
• К каким утратам (лишениям) это привело?
• Какие чувства возникают в моменте осознания утрат?
• Был ли опыт сочувствия, сострадания, принятия?
После того, как признана ценность всех адаптивных механизмов, мы можем двигаться дальше. Человек уже готов заметить ту цену, которую пришлось заплатить за выживание. Получив безопасность, человек начинает яснее видеть, как дорого она ему обошлась.
Допустим, я тихая, послушная, удобная девочка, меня за это любят и хвалят. Но чем пришлось пожертвовать ради такой «любви»? Своими желаниями и беззаботностью? Пришлось стать хозяйственной, безотказной помощницей, забыв, как играть и веселиться?
Какие чувства возникают в момент осознания утрат? Грусть, сожаление, боль? Может быть, злость?
Важно выяснить, есть ли опыт принятия и сострадания, чтобы человек не начал по накатанной сам же себя обвинять: «Да, я был такой тихий, послушный, я столько всего упустил…»
Поэтому не устаем повторять: «На тот момент это был самый лучший выбор, и за него пришлось дорого заплатить. Да, это горько, но вариантов не было. Выбор между добром и злом – прост и очевиден. Но тогда пришлось выбирать между двух зол». Принадлежность и безопасность необходимы, но творчество, беззаботность, дружба, игры, самореализация, дерзость, яркость, умение настоять на своем, умение шалить и говорить нет – все это тоже очень важно. Поддерживая эту важность, мы спрашиваем:
• Чего не случилось?
• Что было недоступно?
• В чем пришлось себя ограничить?
• Чего лишить?
Важно дать место и время грусти, признавая, что за самое важное мы заплатили непомерно дорого.
Уникальный эпизод и новая адаптивность
Чтобы не остаться в этой грусти и не оплакивать всю оставшуюся жизнь свои утраты, нам надо перейти к следующему этапу. Если я сейчас оплакиваю то, чем пришлось пожертвовать тогда, значит, для меня это до сих пор важно. Отгоревав, я буду готова идти дальше. Это хорошая новость: пришло время впустить в свою жизнь все то, от чего когда-то пришлось отказаться.
Как это сделать? Чудом, не иначе! А если серьезно, то через работу с уникальным эпизодом и предпочитаемой историей. Эти термины я позаимствовала в нарративном подходе, на который опиралась, работая психологом в кризисном центре для жертв домашнего насилия. Там я поняла: женщины остаются в разрушительных отношениях не потому, что им «нравится страдать», а потому что насилие искажает их внутреннюю историю, насыщая стыдом, виной и надеждой угодить. Фокус внимания смещается на насильника, и женщина перестает воспринимать себя безотносительно его реакций и настроения. Нарративный подход помогает вернуть авторство своей жизни и начать писать свою историю заново.
Когда мне нужно наглядно показать, что такое предпочитаемая история и уникальный эпизод, я беру с собой на лекцию шкатулку, в которой полно бусин. Часть из них нанизана на нить, часть – нет. Каждая бусинка – это метафора эпизода или события. А нить – это образ того, кем я себя считаю. В теории гештальт-терапии – нить соответствует Personality.
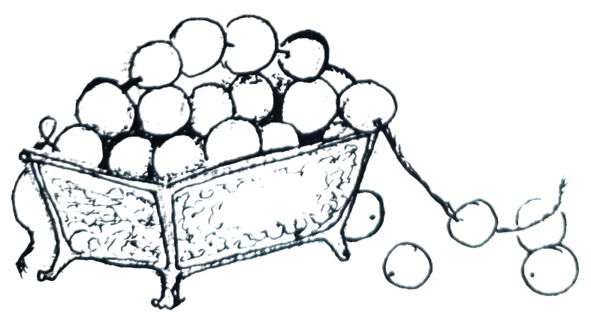
Допустим, «Я удобный» – это устойчивое представление человека о себе. Множество эпизодов, нанизанных на это представление, извлекается из памяти так же легко, как бусы из шкатулки, стоит только потянуть за ниточку.
Но если человек уже порядком устал от своей удобности, то я могу предложить ему добыть из своей памяти ситуацию, которая с ним совсем не вяжется, но вполне могла произойти. Чтобы облегчить доступ к воспоминаниям, я предлагаю соответствующий «соус»: «Вообще-то у меня не так, но вот однажды… Даже не верится, что такое могло произойти со мной. Это вообще не про меня…» Примерно такими словами предваряется рассказ об уникальном эпизоде.
Пример: «Я не знаю, что на меня нашло, но тогда мне вдруг так сильно захотелось… Нет, обычно я не настаиваю, не прошу. Делаю, как скажут, но в тот раз…
Я никогда ни о чем не просила маму. А тут эта кукла…

Она была такая, что я не могла без нее жить. Я так просила, так умоляла маму, даже плакала! И мне ее купили!»
Если мы находим уникальный эпизод, который отличается от нашего привычного поведения, то мы можем «завести» новую историю про себя, дать ей имя.
Терапевт: «Какая ты была в этой истории с куклой? Что важного с тобой случилось?»
Клиент: «Я была влюблена в куклу. Я так просила, что сама себе поражаюсь! Когда влюбляюсь, то становлюсь настойчивой? Вот только обычно мне не важно».
Терапевт: «Ты привыкла считать себя удобной. В рассказе о кукле ты была на себя не похожа? Оказалось, что ты можешь настаивать, когда страстно чего-то хочешь. Вспомнив историю с куклой, какая ты сейчас?»
Клиент: «Я все еще удобная… Но иногда я могу быть настойчивой. Мне нравится, что я могу быть настойчивой!»
Моя метафора с бусами – это то, что происходит на терапии, когда мы помогаем «обновить» Personality: через обнаружение уникального эпизода мы добавляем новую «ниточку», даем ей название и переходим к укреплению новой истории. Для этого уникальный эпизод надо сделать максимально живым и подробным. Можно интересоваться деталями, спрашивая не только, что произошло, но и уточнять: где, когда, с кем? Какие были образы, звуки, запахи, ощущения, действия, чувства? Все это позволит максимально насытить живыми ощущениями ту ситуацию, в которой был получен важный опыт.
Чтобы вплести единичный случай в общую канву представлений о себе, можно делать «челноки» от нового к привычному. Вот примеры вопросов, которые будут способствовать интеграции нового опыта.
Что тебе напоминает о той ситуации?
Если бы ты снимал фильм об этом событии, какая бы музыка звучала на фоне? Давай включим ее прямо сейчас? Вот она звучит, что ты чувствуешь? Что хочется сказать или сделать, когда ты сейчас слышишь эту музыку?
А с кем из твоих друзей, знакомых тебе проще быть настойчивым? А с кем – труднее? С кем ты чаще видишься? Кому бы понравился «саундтрек» к фильму про тебя, который сейчас звучит?
Через сенсорику, через наполнение ярким проживанием этого уникального эпизода мы можем расширить сферу нового от маленькой точки единичного события до более обширных территорий.
На основании уникального эпизода можно формировать новую адаптивность. Мы не атакуем старое и привычное. Мы предлагаем дополнить то, что было раньше, тем, что возможно сейчас. Можно спросить клиента: «Если бы этот уникальный случай стал началом чего-то нового в твоей жизни, то как бы ты назвал это новое?»
О чем для вас была эта история? Как бы вы ее назвали?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Моя пошаговая инструкцию присвоения нового опыта выглядит так:
• все мои выборы были наилучшими там и тогда;
• все мои навыки полезны и применимы в определенных обстоятельствах;
• выбрав главное там и тогда, я заплатил за свой выбор большую цену;
• то, от чего я отказался там и тогда, важно для меня здесь и теперь;
• я выбираю обогащать свою жизнь новым опытом.
Коррекция или развитие?
Если в своей работе вы пользуетесь термином «сопротивление», говоря о клиенте, то что именно вы имеете в виду? Я знаю, что это популярный термин. Часто его слышала в ходе супервизий и семинаров. Существует даже такой термин: «работа с сопротивлением».
Синонимом слова «сопротивление» является «противо-действие». Если мы говорим о сопротивлении клиента, хорошо было бы посмотреть, на какое действие терапевта клиент ответил своим противодействием. Не получается ли так, что терапевт сам вызывает сопротивление клиента, чтобы потом с ним (с сопротивлением) работать?
Слово «коррекция» я вынесла в название не случайно. Термин «коррекция» буквально означает «исправление». От лат. correctio – «исправление», «поправка». Стремление исправлять предполагает ошибки и недовольство. Не является ли сопротивление клиента всего лишь закономерной реакцией на стремление терапевта его «исправить»? Часто ли на терапию приходят люди, которые недовольны собой и предлагают заняться их исправлением? Часто. Но я не соглашаюсь. А на что соглашаюсь, расскажу подробнее в следующей главе, посвященной работе с запросом.
Подобно тому как вместо прерываний контакта я вижу форму его организации, точно так же я не считаю сопротивлением клиента его естественные реакции на происходящее в сессии. Если клиент говорит нет каким-то моим идеям или предложениям, это не сопротивление, а, напротив, его ответственный вклад в нашу совместную работу. Важно двигаться со скоростью клиента. Выбирая глубину и интенсивность работы, мы сонастраиваемся. Терапия бывает болезненной, это правда. Избегать боли – естественно и понятно. Так давайте не будем усугублять ситуацию, добавляя к неизбежной боли свою критику и оценивание.
Для меня «сопротивление» – это закономерная реакция на насилие. Исторический пример – Сопротивление в оккупированной Франции (фр. Résistance) во время Второй мировой войны. Как же прекрасно звучит «сопротивление» на французском и какие новые смыслы для нас раскрывает, отсылая к понятию резистентности (от лат. resistentia – «сопротивление», «противодействие»). Сопротивляемость, устойчивость, невосприимчивость организма к воздействию различных факторов: инфекций, ядов, загрязнений, паразитов – важна и полезна. Без нее мы были бы слишком уязвимы и беззащитны. Если происходящее в терапии является не полезным, то невосприимчивость к таким интервенциям – самая адекватная реакция.