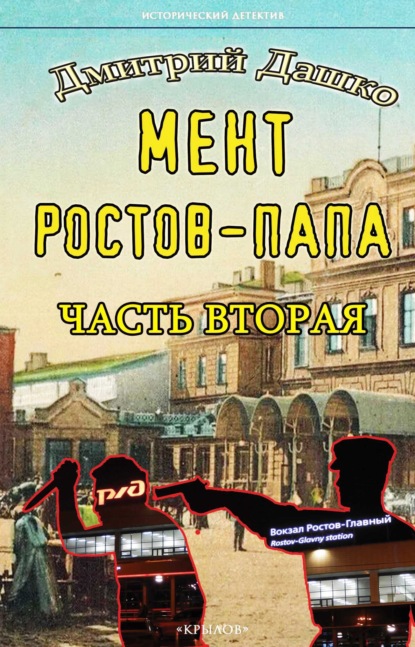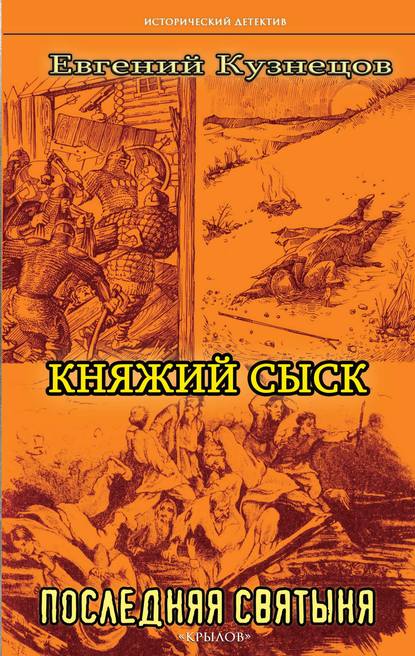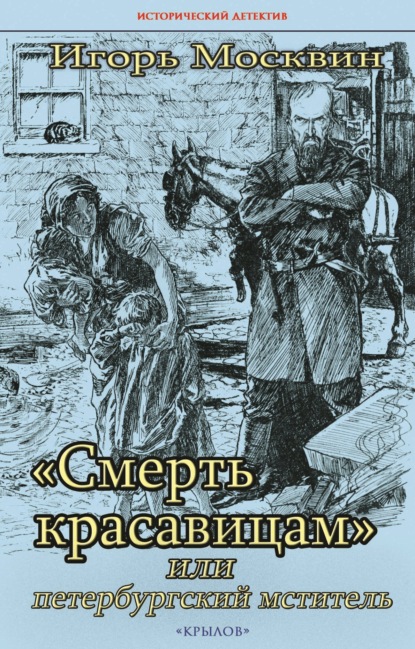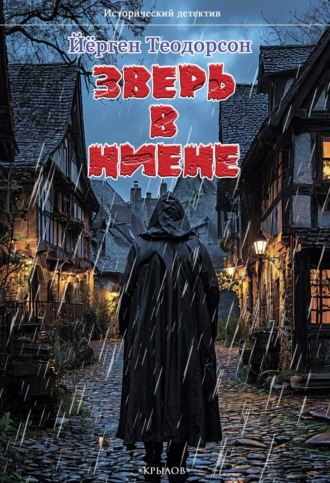
Полная версия
Зверь в Ниене
Ещё левее Нева, раздваиваясь, обтекала красный от сосен Хирвисаари, а за ним впадала в залив.
Малисон подумал, что не столько времени уходит на езду, сколько отнимает переправа.
В Конду-бю он спешился у ворот, привязал поводья к забору и зашёл на двор к паромщику.
– Хозяин! Стешка! – зычно предупредил он о своём появлении. – Дома?
Стучать не пришлось. На крыльцо вышел босоногий мужик, поправляющий на встрёпанной голове шапку.
– Здрав будь, Егор Васильев, – он угодливо улыбнулся.
– Перевезёшь? Я сегодня на коне.
– Лошадку можешь здесь оставить, мы приглядим, – нынче Стешке лениво было грести на плоту, а хотелось управиться с челном, пусть и денег меньше.
– Эх, сегодня вот как раз не могу, – с сочувствием вздохнул Малисон. – По важному делу надо быть мне верхом, не обессудь.
Паромщик тоже вздохнул и направился к калитке, ведущей на реку.
– Слышал про девку-то? – когда отчалили, обронил купец.
– А то! Все говорят, – пропыхтел Стешка, ворочая веслом.
– Видел её?
– Не-а…
– Говорят, её перевозили на тот берег, а кто, не говорят, – закинул удочку Малисон.
– Не я. Я бы запомнил.
Стешка не врал. Это было заметно по его простоватому лицу, раскрасневшемуся от натуги. Паром пересекал стремнину – в такой момент не до извивов души.
Плот мягко ткнулся в дно. Зашипели брёвна, налезая на песок.
– Вон как обмелело, – пробормотал, словно извиняясь, Стешка. – Дожди вроде шли.
Малисон вскарабкался в седло. Лихо вздымая брызги, Муха с удовольствием прочапала до берега, потянулась к воде, хлебнула, зафыркала.
– Я покричу, когда назад поеду, – обернулся купец.
– Счастливого пути, – паромщик легко оттолкнулся от дна – разгруженный плот всплыл. – Буду ждать, Егор Васильев.
Поддавая крупом и оскальзываясь, Муха влезла по склону и бодро пошла по дороге.
Усадьба Бъёркенхольм стояла не на мысу, открытая всем ветрам, но чуть ниже по течению и поодаль от берега, в том месте, которое не затоплялось водой.
Миновав покосные луга, Малисон проехал через берёзовую аллею к воротам усадьбы, спешился – и тут, на удачу, вышел на крыльцо сам управляющий, длинный как оглобля и такой же худой.
Хильдегард Тронстейн был человек суровый и немногословный. Подойдя к воротам, он сказал:
– Вот и ты.
После чего стал ждать, что скажет непрошенный гость.
Купец достал из сумки бутыль, повертел на солнце, помахал этикеткой и молвил:
– Ты только посмотри, что я привёз. Пойдём, разговор есть.
Тронстейн отодвинул воротину, впустил купца, кивнул на лошадь:
– Оставь Ингмару, – и требовательно гаркнул в сторону конюшни: – Эй!
У него этих «Эй!» на разные лады был целый мешок, и каждое кому-то предназначалось. Все слуги в поместье знали своё «Эй!». Тронстейн быстро вколачивал понимание.
На зов тут же явился сын управляющего, приставленный к лошадям. Его можно было видеть на облучке, когда супруга Стена фон Стенхаузена Анна Елизавета с дочерью Рёмундой Клодиной приезжали в город.
Выглядел он лет на шестнадцать-семнадцать, а сколько было на самом деле, купец не знал и никогда не спрашивал. Не по годам рослый, он уже сейчас был шире отца в плечах, и обещал вымахать дальше. В отличие от Хильдегарда, Ингмар уродился черноволосым и скуластым. Длинный нос и подбородок, на котором пробивался юношеский пух, указывал на сродство с Тронстейном, но глаза были совершенно звериные, с диким блеском. Ингмар отличался буйным нравом, который смирял кулаками и кнутом отец, но этой весной сумел отделать крепкого моряка, с которым что-то не поделил в «Медном эре». Двигался он с ловкостью и стремительностью горностая. Подростковая неуклюжесть миновала его. Сладит ли с ним дальше Тронстейн, было вопросом спорным. Если нет, то из Ингмара мог выйти отличный солдат, а пока управляющий неотлучно держал сына в хофе, сам обучая счёту, грамоте и ведению усадебного хозяйства.
– Здравствуйте, герр Малисон, – вежливо приветствовал гостя Ингмар, забирая поводья.
– Бог в помощь, парень, – холодно ответствовал купец, чтобы подчеркнуть границу между старшими и младшими.
В усадьбе Бъёркенхольм надо было держать себя по-особенному. Короткая лестница от ижорки-скотницы до генерал-риксшульца была здесь представлена во всей полноте и с далеко разведёнными ступенями.
– Благодарю, герр Малисон, – склонил голову Ингмар и повёл Муху на конюшню.
Он был в изношенных, изнавоженных, но некогда весьма приличных сапогах. Возможно, генеральских. Всё в его одежде говорило о господской милости, призрении к нижним и ближним от щедрот и избытка. На поясе Ингмара висел короткий нож в богато обложенных серебром ножнах. Не иначе, помещица одарила. Сам Хильдегард Тронстейн своего сына не баловал.
Не говоря ни слова и не оглядываясь, управляющий двинулся к правому крылу мызы, в котором обитал с сыном. Сам господский дом был каменным, в два этажа, с башенкой и медным флюгером на высоком шпиле, который было издалека видно с любого корабля при входе в Неву. Для этого флюгер в виде кораблика со стрелой под ним надраивали песочком, чтобы горел на солнце и радовал глаз.
Тронстейн шёл деревянной походкой. Он был прямой как палка и негнущийся. Все знали, что управляющий носит корсет из китового уса для поддержания спины, который сын затягивает каждое утро. Это вскрылось, когда его пытался зарезать пьяный, а управляющий принял удар и оказался как бы в броне. Случай вышел прилюдный. Пришлось давать объяснения. Мужики почесали в затылках и только больше зауважали странного управляющего, но стали понимать, почему он при могучем ударе своём никогда не таскает ничего тяжёлого.
Жил управляющий с сыном при господском доме, но не в нём самом, а в пристройке – флигеле. Всё у них было наособицу, как у благородных, но в то же время скромно. Печь в углу только для тепла, голландская, на такой обед не приготовишь. Возле печки на гвоздях одёжа, а под нею – дрова. Коровьи шкуры на полу. Два слюдяных окошка пропускали много света. Ещё в комнате помещались кровать с подстилками из дерюги, на которых спал Тронстейн, тощей подушкой да периной, чтобы укрываться; стол, длинный ларь вместо скамьи, жёсткий стул с высокой спинкой и подлокотниками, над ним – полки с посудой. Деревянные кружки с тонкой резьбой. Лестница у двери вела наверх, где жил Ингмар. А ведь Тронстейн был богат.
– Я привёз из города новости, – объявил купец.
В каменном взоре Тронстейна загорелся огонёк. Управляющий был падок до всякого рода известий, о которых мог первым рассказать своей хозяйке. Страсть к сбору сплетен у него была чисто женской, мало подходящей для столь сурового человека. Сам он, однако же, с чужими говорил мало, а подбирал слова долго. На щеке с левой стороны рта белел рубец, как утверждал Тронстейн, полученный на войне от сабли. На правой скуле красовались вмятина и багровый шрам – здесь, в поместье, копыто подравнивал, и лошадь лягнула, все видели. Жизнь была жестока к нему, а он был немилосерден к жизни своей и окружающих.
Купец сел за стол, опустил к ногам аппетитно звякнувшие сумки. Выставил бутылку. Управляющий деловито метнул к ней с полки оловянные чарки. Вытащил из ножен пуукко. Обушком сбил сургуч. Посмотрел на этикетку прежде, чем отвязать шнурок, но, судя по взору, ничего в ней не понял.
Тронстейн времени терять не любил. Быстро и решительно разлил вино до краёв, не проронив ни капли. Подняли чарки, посмотрели друг другу в глаза, отпустили звучное «Skâl!» и выпили. В доме управляющего всегда пили до дна. К чёрствому нраву Тронстейна надо было привыкнуть, но, привыкнув, с ним легко было иметь дело.
Тронстейн громко стукнул донцем чарки. Опираясь о столешницу, медленно опустился на стул, прислонился к спинке и остался недвижим как истукан.
– Был я сегодня на «Лоре», – пустился Малисон в обещанные россказни. – Шкипер Парсонс в эту навигацию прибыл с последним рейсом. Предложил мне по старой дружбе, – купец взял бутылку, многозначительно качнул ею и наполнил чарки, – купить превосходнейший кларет, который он привёз из южных земель. Другого такого в городе, да что там – в Ниене, во всей Ингерманландии, даже у генерал-губернатора не будет. До следующей навигации, видит Бог! – купец едва удержался, чтобы не осенить себя крестным знамением и не кощунствовать с чаркой вина в руке. – Дело верное. Мы можем на пару в долю войти и торговать всю зиму единолично.
Тронстейн сидел, как вытесанный из гранита, и даже не моргал. По оценивающему взгляду купец догадался, что он высчитывает сейчас, стоит ли связываться, а если управляющий принялся считать, то обязательно согласится.
Наконец Тронстейн наклонился над столом, взял чарку и потянулся к Малисону. Они чокнулись. Управляющий выпил до дна и снова застыл на стуле.
– Хорошее вино, – сказал он, подождав. – Радует.
Это значило, что он принял предложение, осталось договориться о деньгах. Купец незаметно выдохнул и пошёл к ним по долгой дуге, чтобы вовремя захватить управляющего, как спящего зверя.
– Слышал про убитую йомфру?
Тронстейн кивнул.
– В городе только и делают, что ищут злодеев, а у вас что о ней говорят?
– Я слышал крики, – с достоинством признался управляющий.
– В ту ночь?
Он кивнул.
– Женские?
– Женские и мужские. Не знаю только, с берега или с реки. Ночью звуки по воде далеко расходятся.
– А как орали? – заинтересовался купец. – Как будто режут?
Тронстейн мотнул головой.
– Спорили, – он тщательно подбирал слова. – Пререкались.
– Мужских голосов много было?
– Один. Так слышалось, – пояснил управляющий.
– А кто ещё слышал крики?
Тронстейн качнул плечами. Они посидели, налили вина. Выпили, помолчали.
– Что в городе говорят? – в свою очередь спросил управляющий.
– Кто о чём, – пустился в разглагольствования купец. – Кто-то валит на матросов, кто на мужиков, кто на рыбаков, а кто-то… – Малисон склонился к управляющему и прошептал: – На Сатану!
На лице Хильдегарда Тронстейна не дрогнул ни один мускул.
– Что знаешь?
– В грязи вдавленное найдено украшение. На разорванной цепи медный змей-дракон, позлащённый, облезлый… Или серебряный, не помню. Говорят, что старинной работы. Его Хайнц в ратуше видел, он и рассказал.
– А ты на кого думаешь? – вежливо поинтересовался Тронстейн.
– На бродягу. Да кто угодно мог быть! Если бы я мог так просто всё разгадывать, то служил бы в магистрате юстиц-бургомистром.
Тронстейн развёл уголки губ в стороны, что у него означало широкую усмешку.
– Награду за поимку назначили?
– Нет, – удивился купец. – А должны были?
Управляющий подумал. Кивнул с некоторой грустью.
– Дочь шорника никому не нужна, – рассудил он. – Даже отцу. Иначе Тилль сам принёс бы деньги в ратушу.
– Так, может, ему надо подсказать? – расстроился великодушный купец. – Может, Тилль не знает порядков или в скорби он, а сейчас ему недосуг?
– Мекленбуржцы, – со злобой промолвил Хильдегард Тронстейн, – знают всё…
От обсуждения мекленбуржцев перешли к делу. Стали рядится за цену. Долго спорили, уговорили ещё бутылку, пока не ударили по рукам. Управляющий поднялся наверх. Долго копошился там, брякал затворами, звенел серебром, наконец вынес деньги. Снял с полки шкатулку с бумагой, чернильницей, перьями. Пересчитали далеры и марки. Купец выдал расписку. Они привыкли друг с другом иметь дело, и в ратуше бумаги не заверяли – и ехать далеко, и платить ненужную пошлину.
Потом управляющего позвали на двор. Тронстейн проводил купца до порога. Малисон толкнул дверь. В сенях от него шарахнулся Ингмар. В глазах сверкнула злоба. Сын управляющего обладал необузданным нравом и был подвержен вспышкам гнева, год от года становясь диковатее.
От отцовского «Эй!» он сразу же присмирел, сбегал на конюшню, вывел Муху и передал Малисону поводья, учтиво попрощавшись с гостем.
Купец выехал к переправе весьма довольный. Он чувствовал себя человеком оборотистым, дела которого идут хорошо. На поясе висел тяжёлый кошель, в сердце поселилась радость. Деньги – это кровь купеческая. Никакой торговец выпускать её из себя не захочет, если он в здравом уме.
На обратном пути Малисон долго ждал паромщика. Потом остановился в Спасском у кабака – брюхо требовало обеда.
Уже стемнело, когда паромщик переправил его на городскую сторону. Рынок закрылся, но всё же для порядка заглянуть в лавку стоило. По пустой площади Малисон подъехал к магазину и увидел, что засов опущен и стоит, прислонённый к стене, а двери затворены. Должно быть, Яакко свернул торговлю и ждал, чтобы дать хозяину отчёт, как часто делал.
Малисон спешился. Ведя на поводу Муху, шагнул к двери, потянул на себя.
В лавке было темно.
«Неужели ушёл и бросил открытой?» – не поверил купец.
Оставил лавку незапертой, чтобы напиться? Такого за бобылём не водилось.
– Яакко, – позвал купец, но ему никто не ответил. Темнота как будто ждала, и тогда он снова позвал, почему-то осторожно: – Яакко?..
«Да что он?» – возмутился Малисон и шагнул в лавку.
Протиснулся между рядами ящиков, и крепкий удар по голове срубил его наповал.
Тьма в бутылке
Он полз. Потом его тащили. Потом он снова полз, пока не распластался на полу. Из глаз полетели искры. Малисон глухо застонал и стал двигаться медленно, прижавшись к стене и ощупывая её растопыренными пальцами.
– Вот неуёмный.
Он ухватился за голос, как за верёвку, и притянул себя обратно в бытие. Купец глухо замычал и разлепил веки, склеенные засохшими слезами. В ушах шумело, в глазах мутилось, но всё же он напряг зрение и понял, что полз не вдоль стены. Под ним был самовязаный из ветоши половик. Он должен лежать возле стола. Вот ножки. Рядом должен стоять ларь, а вовсе не стена. А вот там печка. Вот же она. Это было его ларь, его половик, его дом. Малисон перевернулся и узрел чуть освещённый потолок, знакомую до сучка матицу. И крюк для люльки, который сам вбил. Где-то рядом беззвучно, как казалось из-за шелеста в ушах, двигался человек. Свет приблизился, и Малисон различил рожу солдата, тусклое пятно ряхи Аннелисы и острую мордочку старшего письмоводителя Клауса Хайнца, который держал свечку.
Тёплая рука служанки поднырнула под голову, приподняла.
– Ты что, голубь? – она говорила по-русски. – Лежи-лежи. Куда ты?..
– Поднимем? – по-фински спросил Клаус Хайнц.
– Посадим.
Ласковая, но сильная рука прихватила его за плечо. Служанка усадила Малисона и прислонила спиной к ларю.
От перемещения купца замутило. Он всмотрелся и увидел, что лицо Аннелисы разъезжается на два, лицо Клауса тоже съехало вправо и казалось, будто у него три глаза, а свечка просто раздвоилась, и обе они двигались слаженно.
Малисон застонал и смежил веки, до того было противно.
– Мутит, голубь?
– Налей ему пива, – сказал Хайнц.
Малисон сидел с закрытыми глазами, пока в губы не ткнулся холодный мокрый край кружки.
– Пей.
Он приподнял веки и увидел перед носом чёрный круг, в котором переливалось что-то чёрное и поблёскивающее. Оно не двоилось. Тогда он обеими руками схватился за кружку и стал, будто для спасения, лакать это надёжное.
– Удержишь? Пей-пей…
Купец жадно выхлебал холодное густое пойло. «Тёмное, – определил он и вцепился в знакомое, прочное воспоминание, позволяющее себя думать. – Йенс варил. Я у него купил бочку перед Ильиным днём. За далер, три марки и четыре эре. В подклете стоит, справа у дальней стены».
Держась за знакомое, он пил и пил, тщась находиться в уверенности. Чувство, будто стоишь на ногах, можно было распространять вокруг себя всё шире, понимая не только бочку и подклет, а и дом, и двор, и хлев, и Муху…
– Муха, – промычал он, отстраняя пустую кружку.
– Что – «муха»?
– Где Муха?
– Какая муха? – спросил Клаус.
– Привели, привели лошадку, – заговорила служанка. – Муха здесь, всё цело.
– Магазин мы заперли, – деловито доложил Хайнц.
– Магазин?
«Что за магазин? – купец не осознавал его, дальше двора он пока себя не расширил. – Что ещё за магазин?».
Аннелиса забрала кружку, и Малисон увидел, как она обеспокоенно переглянулась с солдатом, а оба они – с письмоводителем.
Его уложили на ларь. Закрыв глаза, он лежал, слушая, как шумит в ушах. Голова кружилась и начинала всё сильнее болеть. Потом он потребовал ещё пива. Боль отступила. Шум притих, но не исчез.
Когда Малисон очухался, было светло. Он открыл глаза и заметил, что видит ясно. Ночной морок с раздвоением сгинул вместе с потёмками. Голова была тяжёлой и казалась набитой шерстью, как случалось с крепкого похмелья. Она была замотана тряпкой и саднила острой болью раны, если лечь на спину.
Купец приподнялся на локте. В доме было непривычно тихо и пусто. Солдат ушёл, наверное, в крепость.
Со двора пришла Аннелиса.
– Где Сату? – спросил он первое, что пришло в голову. – Где Ханне? – если жена могла копаться в огороде, то детишки должны были пока ещё сидеть в избе. – Где… – он не вспомнил, как зовут младшего и продолжил: – Где все?
Когда Аннелиса рассказала, сначала он не поверил, а когда принял разумом и сердцем – завыл. Это было так страшно, что служанка отшагнула к печи, потом опомнилась и прижала его лоб к своему животу.
Она недвижно стояла, давая ему прокричаться, а потом стала утешать, гладя по маковке, которая не была скрыта повязкой. Прибежали соседи. Их было много. Они стояли и смотрели, перешёптываясь.
Малисон пришёл в чувство.
Выпрямился, поднялся, опираясь на руку служанки. Сказал твёрдо:
– Я хочу их видеть.
Шагнул, повело, чуть не упал. Столяр Дитер Гомбрих и сосед, ни имени, ни занятия которого в голове не осталось, вывели его под локти.
В холодной избе лежали все пятеро. Их сложили на полу бок о бок. Наспехоттёртые от крови, они выглядели страшно. Лицо Сату было искажено гримасой невыносимой муки. Айна была удивительно спокойна, как будто смерть принесла ей освобождение от земных страданий и умиротворение. Ханне выглядел озлобленным. Пер был похож на уродливую куклу. У всех было перерезано горло – наискось слева направо и чуть вверх. Только у Айны оно было вскрыто от уха до уха, и она не мучалась. Яакко лежал, странно скукожившись. Так окоченел в лавке, что не смогли разогнуть. В посмертном оскале торчали измазанные красным зубы.
Душегуб всякий раз бил одинаково.
– Яакко… – пробормотал купец и схватился за пояс, вспомнил.
Кошеля с деньгами не было!
– Где моя мошна? – спросил он и обернулся к служанке. – Ты взяла?
– О чём ты, голубь?
– Деньги… они были. А теперь денег нет.
– Никаких денег не было. Как принесли, так я от тебя не отходила, при свидетелях, – зачастила Анне-лиса. – Солдат был, и писарь, и ночная стража, и соседи – все видели, не брала я.
– Я в усадьбу ездил, – чётко ответил купец (при свете дня голова работала не как во мгле). – Мы с Тронстейном условились, он заплатил мне, я кошель на пояс повесил…
– Лиходей и срезал, – рассудила служанка.
Соседи шептались – дескать, только о сребре и думает, – но Малисон не жалел пропажи. Ему казалось, что в отсутствии кошеля есть нечто неправильное, важное, но что именно, определить не мог.
Он замолк и смотрел на тела, медленно, по капле, лишаясь и горя, и привязанностей, и чего-то коренного, что делает родителя родителем, а человека человеком. Голову стягивало железным обручем, а шум в ушах нарастал.
– Их надо обмыть, – молвил он глухим голосом. – Кто возьмётся? Я заплачу. Мастер Гомбрих, изладишь гробы на всех? Надо заказать панихиду. И могилы выкопать. Пошлите за пастором.
Он развернулся и без посторонней помощи утопал в дом, тяжело ступая и придерживаясь за стену. Никто ему не потянулся более помочь, а стали договариваться промеж собой, Аннелиса охотно вошла в самую стремнину и принялась руководить, а её слушали, принимая за новую хозяйку, занявшую своё место по праву, будто она была наследницей.
Малисон же достал из ларя бутылку кюммеля, налил чарку и выпил. Тминная настойка не брала. Перед глазами стояли образы перемазанных кровью и грязью мертвецов, совсем не похожих на родню, которую он помнил. Они ощущались чужими и не пробуждали жалости. От них хотелось избавиться.
Похоже, кюммель начинал помогать.
Тогда он налил и выпил ещё.
По имени Тимон
– Московиты? – с видимым недоверием переспросил юстиц-бургомистр Грюббе. – Они могли это сделать?
Пим де Вриес явился в ратушу без приглашения, по собственной воле для дачи показаний, каковые счёл нужным сообщить, по выяснению обстоятельств о нападении на купца Егора Малисона.
Он говорил, а Клаус Хайнц записывал.
– У Малисона вышел спор в весовом амбаре, – сказал Пим де Вриес. – Среди московитов есть буйный по имени… Тимон. Оный Тимон кидается на людей, как бешеный пёс, не имея на то никакой причины. Есть свидетели – весовщик Хенрикссон и сын его Олаф.
Он откашлялся и сплюнул в плевательницу.
– Откуда Тимошка Зыгин узнал, где живёт Малисон? – спросил Клаус Хайнц, который знал всех с первого дня пребывания на его глазах. – Он заходил с товарищами в лавку, но купца не застал. Возле дома на Выборгской улице его не видели, я опрашивал соседей. Приходил старшина обоза Иван Якимов, но это было после того, как соседи обнаружили убитых.
– Он мог зайти проверить, – допустил бургомистр юстиции.
– Но зачем даже бешеному псу Зыгину убивать детей?
Этот вопрос они ещё не поднимали.
– Это не значит, что его не было, – бургомистр повидал на своём веку много зла. – Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия.
Привычную его подозрительность призван был уравновешивать письмоводитель, всегда находящийся под рукой для такого дела. И верный Клаус не подвёл.
– Йомфру Уту тоже он? – прищурился Хайнц. – Она убита тем же способом – ударом ножа по горлу по дуге снаружи-внутрь.
– Возможно допустить такое, – подумав, ответил Грюббе. – Надо проверить на таможне, был ли указанный Тимошка в составе обоза, либо присоединился к московитам уже в Ниене, а перед этим совершил убийство йомфру Уты.
– Мы можем посадить его в крепость, чтобы не сбежал, – дисциплинированно, однако нехотя предложил письмоводитель.
– Да, немедленно, – закивал Пим де Вриес.
– Против него нет свидетельств. Наши слова есть плод недоверчивости, не имеющей под собой основания достаточно прочного, чтобы отправить в темницу русского подданного. Возможно запретить ему выезд из Ниена до выяснения обстоятельств, но и этого лучше не делать. Сие есть дом, построенный на песке – он не устоит, а магистрат будет выглядеть сборищем дураков.
Губы Пима де Вриеса растянулись в презрительной усмешке:
– А что сделают русские, выразят глубокую озабоченность?
– Они могут, в свою очередь, удержать наших купцов, – пресёк спор бургомистр Грюббе. – Виновником буду я. Кто станет выплачивать им убытки, если они подадут жалобу королеве?
Пим де Вриес недовольно прокашлялся.
– Если Зыгин – московит, то откуда у него украшение в виде дракона, который для православных – символ Дьявола? – стараясь сохранять бесстрастный тон, осведомился Хайнц.
Голландский купец яростно сплюнул.
Когда он вышел, юстиц-бургомистр спросил:
– Что думаешь ты об этом денунциате?
– Я думаю, что причиной его визита является злоба, вызванная раздором с московитами, о которой все знают, – быстро ответил Хайнц. – Он старается ухудшить жизнь обидчикам и не понести за это ответственности, перекладывая всю тяжесть принятия решения и последствий за него на нас.
Грюббе поджал губы, кивнул и, подумав, заговорил о совершенно ином:
– Как тебе хорошо известно, – тут он мрачно хмыкнул, – преступники часто воображают, что если они будут казаться жертвами, то их не заподозрят. Ты с Малисоном в приятельских отношениях. Стань ему другом, Клаус. Больше говори с ним. Пусть он почувствует твою заботу и теплоту.
Зверь пробуждается
Могилу возле кирхи выкопали одну, чтобы мать и дети лежали вместе. Бобыля после отпевания отвезли на деревенское кладбище, потому что даже после смерти магистрат продолжал разделять души на городские и посторонние.
Когда гробы опустили в яму, Егор Васильев сын Малисон подошёл, проваливаясь в мокрую землю, к самому краю, поднял с отвала горсть и бросил на крышку гроба.
«В Ханне попал», – отметил он и, чтобы не оставлять навеки недоделанное дело, склонился ещё раз и кинул землю на гроб жены.
Он отошёл, а за ним потянулись тесть, тёща и вся родня Айны. Было их много – целая карельская деревня, ажно четыре двора.
Он отошёл за могилу и встал смотреть, как люди, пришедшие на похороны, бросают и бросают землю. У них были сосредоточенные, угрюмые лица, словно их привели выполнять через силу некую тяжёлую работу.