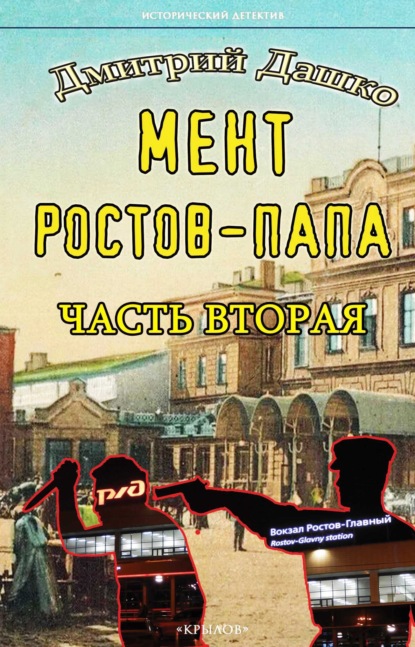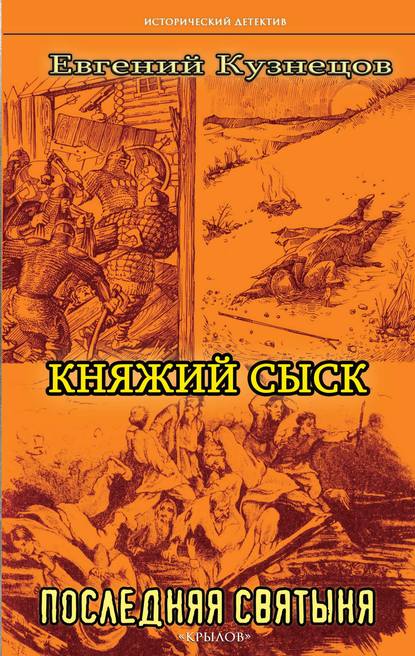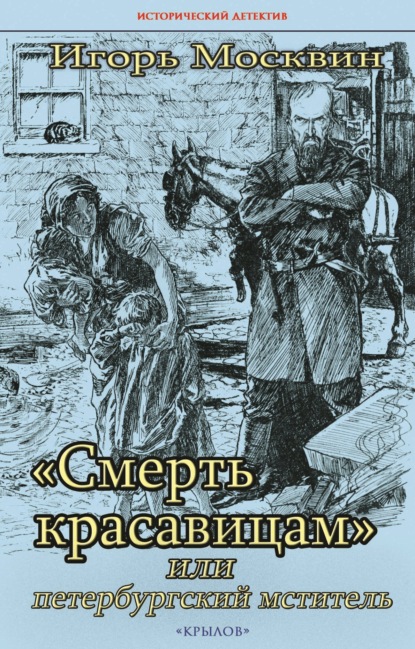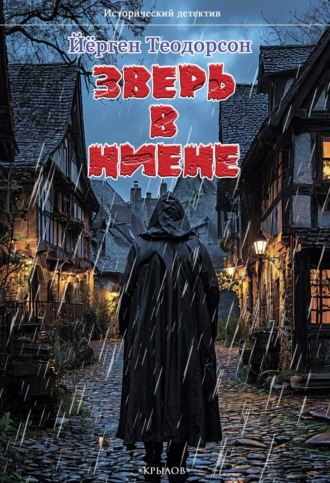
Полная версия
Зверь в Ниене
– Приду, – сказал Якимов и негромко прибавил: – Как там?
– Воюют, – совсем тихо ответил купец. – Но меж собой. Не про нас. Пока что.
Девица с фигуркой дракона
Труп находится на дороге в Нарву и Дудер-хоф, в семи шагах от перекрёстка с дорогой в Спасское и к переправе на Хирвисаари. На вид девице около 15–16 лет, рост около двух альнов и одного фута, среднего сложения, волосы светлые, заплетены в косу, глаза приоткрыты, платка нет. Одета в шерстяную кофту коричневого цвета, на кофте грязные вытянутые пятна, похожие на следы пальцев. Одета также в рубаху белёную, юбку голубую поношенную, на юбке красные пятна, расплывшиеся от середины к низу подола. На ногах чулки вязаные серые, покрытые расплывшимися красными пятнами, похожими на кровь, и коричневые туфли, полностью покрытые грязью. Труп лежит на спине наискось дороги, головой к северо-востоку. Ноги вытянуты ровно, расстояние между пятками примерно квартер. Правая рука прямая, лежит на земле ладонью вверх. Левая рука подогнута в локте, лежит на земле ладонью вниз. Под трупом в области головы и верхней части спины имеется лужа жидкости бурого цвета, похожая на кровь, вытянутая вдоль колеи с дождевой водой. На шее имеется глубокая резаная рана с краем на два дюйма ниже мочки правого уха и примерно на дюйм ниже мочки левого уха. На теле и одежде не обнаружено каких-либо предметов. На левой обочине дороги, в трёх футах по направлению к Нарве, обнаружен белый головной платок женский. Под трупом обнаружено украшение в виде змеи, литое из меди и посеребрённое, серебрение частично стёрто, на серебряной цепочке, цепь разорвана пополам на звене.
Убитая опознана присутствующими юстиц-бургомистром Карлом-Фридером Грюббе и ленсманом Игнацом Штумпфом как Ута, дочь бюргера Тилля Хооде, шорника.
Писал Клаус Хайнц, письмоводитель магистрата города Ниена.
Переписанная начисто бумага лежала перед бургомистром юстиции, на равном удалении от присутствующих в ратуше должностных лиц для доступности, если кто захочет перечитать, но никому не хотелось.
По правую руку от бургомистра сидел королевский фогт Сёдерблум и ленсман Штумпф, на земле которого был обнаружен труп. По левую руку расположился пастор Фаттабур, а на дальнем краю стола устроился с чернильницей и бумагами старший письмоводитель городской управы и при надобности нотариус Клаус Хайнц – мелкий, чернявый, с голубыми пронзительными глазками и быстрыми движениями, товарищ бургомистра, приплывший с ним на одном корабле. Хайнц вёл в ратуше всё делопроизводство, в помощники ему были приданы два свеаландца – Уве и Фредрик, но они не отличались ни умом, ни прилежанием. Хайнц с большей охотой взял бы вместо них одного смекалистого финна, прилежного в чистописании, но шведы таких близко к управлению городом не подпускали. Старший письмоводитель был доверенным лицом юстиц-бургомистра и немало способствовал расследованию нарушений закона, а также правильному составлению бумаг о них.
– Ведь мы её опознаём? – спросил фогт для порядка, хотя всё было загодя оговорено.
Кронофогт Пер Сёдерблум приехал в Ниен из Мальмё как в ссылку. Был он образованный, но бесполезный, ибо явно привык больше читать о законах, чем исполнять их. Представитель королевской власти редко оказывался на месте, когда был нужен. Слишком много находил себе фогт посторонних дел – ищешь его, а он сидит в таможне, сидит на крестинах, присутствует на похоронах. Притом Сёдерблум был не в меру набожный, через то мало пил и других старался наставить на путь трезвости нудными увещеваниями, да пытался читать наставления по этике. Обходительный, учтивый, не строгий, не злой, фогт охотно брал взятки, не требуя их. Он был плохой начальник. Понятно, почему его не стали терпеть в большом городе. Здесь к прежним недостаткам добавился рубленый скёнский говор кронофогта. Для остальных шведских бюргеров Ниена Сёдерблум говорил почти как датчанин, и понимали его с трудом.
– Опознаём, это йомфру Ута, дочь шорника, – ленсман знал не только всех крестьян на своём участке и в деревнях поблизости, но и каждого горожанина с его детьми, если они доросли до того, чтобы имело смысл обращать на них внимание.
– Вне всякого сомнения, – подтвердил Клаус Хайнц, который снимал угол в доме на Средней улице, по соседству с Тиллем Хооде.
Королевский фогт вздохнул. Он не знал, как подступиться к делу, да и не хотел за него браться. Жестокое убийство пятнадцатилетней девушки было совсем не то, к чему Сёдерблуму хотелось бы иметь касательство.
– Как же она там оказалась? – спросил королевский фогт без всякой надежды.
– Чтобы узнать, как она там оказалась, мы должны узнать, почему Ута оказалась на перекрёстке посреди ночи, – рокочущий голос бургомистра Грюббе звучал как речь человека, у которого во рту ворочаются камни. – Почему именно на той стороне? Зачем она явилась на перекрёсток? Девицы ночью не ходят по лесу.
– В грозу, – добавил письмоводитель Хайнц.
– Она с кем-то встречалась, – упавшим голосом предположил кронофогт.
– С мужиком, – деловито заявил ленсман Штумпф. – Который отвёл её за село с тайной целью и убил.
– А следы? – с унынием вопросил Сёдерблум. – Там были следы?
– Размыло, – сказал ленсман.
– Вчера был дождь, – кивнул фогт.
– И сегодня будет, – согласился ленсман.
– К вечеру, – уточнил фогт.
– Да и завтра тоже, – с важностью признал ленсман.
Бургомистр юстиции достал из кармана фигурку на цепочке. Она качалась над столом в поставленной на локоть руке, и все смотрели на неё, а потом невольно – в глаза Карла-Фридера Грюббе.
– Украшение в виде змея вряд ли могло принадлежать православному. Это очень старое украшение. Что вы думаете, ваше преподобие?
– Сомневаюсь. Скорее нет, чем да. Нет, не могло даже в качестве семейной реликвии, – пастор свёл над столом пальцы и, внимательно посмотрев на бургомистра, окинул взглядом присутствующих, обращаясь ко всем: – У ортодоксов змея однозначно символизирует Врага рода человеческого, и никто из Спасского православного прихода не стал бы держать дома подобное украшение, не говоря уж о том, чтобы носить его или дарить кому-то. Не оспаривая мнение герра Штумпфа, чей опыт и проницательность заслуживают нашего глубочайшего почтения, должен выразить сомнение в возможности владения этой вещицей кем-то из спасских мужиков. Но это не значит, что мы не можем рассматривать их участие в этом деле априори, – добавил он.
– А из других деревень на Хирвисаари? – спросил бургомистр.
– Там все православные, – сказал ленсман.
– Зачем она туда вообще поехала, да ещё так долго шла пешком? – спросил Хайнц.
– И кто её перевозил? – фогт Сёдерблум чувствовал себя виноватым, не проявляя участие в расследовании.
– Я поговорил с паромщиком и лодочниками на обеих переправах, – сказал письмоводитель. – Они не видели йомфру Уту.
– Надо опросить мужиков из Спасского и всех, кто живёт на берегу, – приказал бургомистр ленсману.
– Займусь, – кивнул Игнац Штумпф.
– Или это были моряки с корабля.
Взгляды присутствующих обратились на проницательного письмоводителя Хайнца.
– Эта вещица вполне могла висеть на шее какого-нибудь голландца или датчанина, – согласился бургомистр юстиции.
– Моряки? – переспросил кронофогт.
Клаус Хайнц вздохнул и объяснил подчёркнуто деликатно:
– Мы прямо скажем, что йомфру Ута рано созрела и не очень хорошо себя вела.
– Вы знали? – спросил пастор Фаттабур.
– Лично я над нею лампу не держал, но догадывался, – ответил Хайнц. – Мы же соседи. Я видел, как она расцветает. Кроме того, слухи. Соседи поговаривают, хотя я вынужденно избегаю общения с ними, много времени уделяя делам магистрата.
– Вы не общаетесь с соседями? – спросил пастор с обезоруживающей наивностью.
– Мы состоим в нашей церковной общине, как все благочестивые люди евангелической веры, любящие ваши проповеди, – елейным тоном ответил Клаус Хайнц. – Мастера с подмастерьями давно готовы завести свою общину, чтобы внимать проповедям от одного пастора, близкого к своему кругу. Они подавали прошение на имя Её Величества, чтобы им прислали священника с их родины, и даже собрали деньги на возведение кирхи, но их просьба не была удовлетворена. Вы же знаете, ваше преподобие. Я сам писал ходатайство Её Величеству королеве Кристине, хотя не являюсь сторонником общинного размежевания.
– Вы совсем не общаетесь с соотечественниками? – уточнил пастор.
– Мы не со… – начал Хайнц.
– Они же с севера, – ответил за него бургомистр юстиции, удивлённый, как можно не понимать столь очевидных вещей. – Беседа с висмарцами и жителями острова Пёль не способна радовать сердце приличного человека. У них отсталые нравы, а те мысли, что иногда возникают, они способны выражать только на платте. Их могут понимать голландцы, но не просвещённые люди, вроде нас с вами. Разум мекленбуржца лежит во тьме, как земли их, разорённые войной, погрязли в мерзости запустения и грехе кровопролития. Неудивительно, что среди мастеровых больше всего самоубийств и насильственных преступлений. Дочери шорника с самого рождения были предначертаны падение и гибель. Все эти несчастные обречены. И Линда-Ворона, и Глумной Тойво, и Безобразная Эльза – все они!
Мужское вино
В порту пахло смолой, жареной с луком плотвой, забортными помоями и дрянным английским табаком – ветер дул вмордувинд. Нева блестела на солнце в лёгкой ряби, будто вылитая из чистого серебра быстрой рукой Творца и так застывшая. Вид реки дарил беспричинное вдохновение и обещал удачу в делах. Малисон вразвалочку прошёл мимо германского эвера «Вместительный», рядом с которым был пришвартован голландский малый флейт «Роттердам», способный пройти в фарватере Невы при полной осадке, мимо русских ладей, карбасов и ладожских сойм, в конец причала, над которым высился борт двухмачтовой шхуны «Лора». Вахтенный матрос, облокотившись на релинг, оцепенело таращился некоторое время на портового «жучка», потом отворотил от него бурую морду свою и сплюнул за борт.
Купец встал, широко расставив ноги, как на палубе шнека, болтающегося у берегов Норвегии, сунул пальцы за пояс, выпятил пузо и гаркнул:
– Эй, на «Лоре», мастер на борту?
Матрос выпялил на купца оловянные зенки:
– Кто спрашивает?
– Доложи – Малисон.
Ждать не пришлось. Из люка показалась голова капитана. То ли собрался на шканцы прогуляться, то ли чутко прислушивался к любому звуку, способному разнообразить скуку преходящей жизни. Вахтенный поспешил к нему.
– Малисон… – прозвучало отдалённо.
Капитан вышел во всей красе. На голове шляпа, в зубах трубка. Табаком воняло на весь порт именно от неё.
Он прошёлся по палубе, разглядывая человека на пристани, словно диковинную рыбу. Выражение лица его постепенно менялось. Он узнавал, но это давалось ему с трудом.
– Шкипер, – вежливо обратился купец. – Разреши взойти на борт?
– Мастер Малисон! – воскликнул капитан. – Добро пожаловать на мою старушку!
Вахтенный кинул сходни. Купец поднялся на «Лору». Капитан Джейме Парсонс широко улыбнулся. Первым явился купец, который мог говорить по-английски! Это был знак свыше, хороший знак. Они обнялись, ладони крепко хлопали по спинам, выбивая из кафтанов пыль.
– Старина Малисон!
– Мастер Парсонс!
Оба счастливы были в предвкушении выгодной сделки. Джейме Парсонс привёз вино, соль и табак на королевские склады, чтобы забрать оттуда зерно, шкуры и сало, но, кроме казённого груза, ушлый шкипер взял на борт и свой собственный.
– Пойдём, у меня есть для тебя кое-что особенное, – заговорщицким тоном проскрежетал капитан, выколотил о планширь трубку, сбросив пепел за борт, и шумно прочистил глотку, добавив смачный ком нечистот в струи Невы.
В крошечной каюте едва нашлось место двоим дородным мужам. Парсонс жестом предложил присаживаться на рундук, служивший постелью капитану. Шкипер был подчёркнуто опрятен, о чём свидетельствовал приколотый к переборке платок, на который Парсонс плевал, чтобы не осквернять палубу. На подвесном столике стояла высокая чёрная бутылка с коротким горлышком, поверху обляпанная слупившимся сургучом, из которого торчала пробка.
– Специально для тебя, – повторил англичанин и налил в оловянную чарку вина. – Попробуй.
Бутылка была полной. Капитан не пил. Только ждал, кто из купцов первым прибежит к нему на борт. Бутылка была показной.
– Я дал ему подышать, – объяснил Парсонс. – Хорошее вино из бутылки должно постоять откупоренным, чтобы глотнуть свежего воздуха.
Малисон сделал добрый глоток. Вино было густое, не кислое. Оно оставляло во рту лёгкий вкус копчёного мяса. Подождав немного, купец обнаружил, что мясо немного поперчённое. И тогда он выпил ещё.
– Кларет, – со значением поведал шкипер. – Из Бордо. Поставляется с континента только в Англию.
Это было мужское вино. Малисон уже знал, кому его можно продать – бургомистрам, коменданту Ниеншанца и управляющему Бъёркенхольм-хоф, в котором жили два драгуна из крепости, а хозяйкой была жена королевского казначея и начальника ингерманландских почт генерал-риксшульца Бернхарда Стена фон Стенхаузена. В усадьбе Бъёркенхольм гнездились самые лучшие, самые прожорливые и платежеспособные покупатели. И превосходный компаньон. Управляющий Хильдегард Тронстейн был человек злой. Он умел выколачивать из крестьян плату за землю, не оставляя растущих задолженностей, благодаря чему не только содержал в порядке хоф, но и у себя в кубышке скопил немало серебра. Он знал, как вести усадебное хозяйство, но Малисон давно обнаружил, что в торговых делах Тронстейн проявляет заманчивую наивность.
«Кто успел, тот и съел», – подумал Малисон.
Шкипер следил за ним с испытующим интересом, ловя знаки довольства или удивления.
– Превосходный кларет, – заверил капитан Парсонс, не оставляя негоцианту ничего иного, кроме согласия. – Это вино из Франции, благородные люди пьют его, а вовсе не те помои для свиней, что возят вам из долины Рейна.
Насчёт рейнских вин Малисон мог бы поспорить, но кларет и впрямь был отменным.
– Сколько ты хочешь за бутылку? – спросил купец, переходя с вежливого английского, на котором изъяснялся с большим трудом, на платтдойч, коим сносно для деловых переговоров владели оба.
Шкипер с британской прямотой назвал цену.
«Его возят только в Англию, потому что даже для шведов это слишком дорого, – хладнокровно принял удар Малисон. – А сюда раз в году и то не каждый год. Поэтому ещё дороже».
В эту игру, однако же, можно было играть вдвоём, главное – проявить твёрдость и не выпускать румпель. Он не рассмеялся, чтобы не оскорблять капитана, но и не улыбнулся, чтобы тот не принял это за проявление слабости.
Малисон имел дело с британскими купцами и знал, что хуже вражды с англичанином может быть только дружба с англичанином.
Природа жителей этого странного острова заключалась в том, что они всегда будут искать способ надуть и, если не получится здесь, попробуют в другом месте, но с пути обмана не свернут.
Если быть с ним настойчивым и хитрым, англичанин не будет тебя любить, а если быть уступчивым и честным, англичанин станет презирать, но любить всё равно не начнёт.
С ними надо было вести дела, придерживаясь буквы закона, и с готовностью применить силу, если вдруг англичанину вздумается истолковать собственное понимание закона в свою пользу, в решающий момент сделки или задним числом.
Наедине с ценным имуществом оставлять англичанина – значило искусить его, что потом он вменит тебе в вину.
Англичане любили говорить о честности. Эти разговоры помогали им обводить простаков вокруг пальца.
Быть с ними честным не значило быть откровенным, а всего лишь упорным, и крепко держаться за свой интерес.
Вино было личным грузом капитана. Это следовало принять во внимание в первую голову. Следом шла величина.
– Сколько у тебя есть? – поинтересовался купец.
– Двадцать ящиков, по дюжине в каждом, – сказал шкипер и тем самым поставил Малисона перед нелёгким выбором.
Даже если сбить цену, в двадцать дюжин он вложит всё серебро и останется без оборотных средств на неопределённое время. С другой колокольни, оставить другим купцам возможность торговать таким прекрасным вином значило недополучить большую прибыль, а такую возможность Малисон исключал.
Негоциант смекал молниеносно. Отдавать деньги жалко, но можно сбыть Парсонсу товары, которые лежали в магазине и дома. То, чем англичане интересовались всегда и очень охотно. Тем покрыть натурою большую часть стоимости двадцати дюжин, часть взять своим серебром, а на остальное найти сдольщиков. Он уже прикинул, кого первого надо уговорить вложить свои деньги так, чтобы купец мог извлечь из его отдачи дополнительную выгоду.
Малисон посмотрел шкиперу прямо в глаза и заговорил с почтением и некоторой тревогой. Без сомнения, купец был другом английского капитана и желал ему только добра, он беспокоился за мастера Парсонса и хотел ему помочь.
Шкипер рисковал, везя столько дорогого вина в такую глушь. Двадцать дюжин бутылок в Ниене сбыть никак не получится. Русские не возьмут за такие деньги. Они вообще не возьмут кларет, разве что пару ящиков. Они закупятся крепким бочковым вином, которое увезут в Москву и там продадут с большой выгодой. От хорошего сухого вина прибыли будет чуть за такую отпускную цену. Даже в Ниене и Кексгольме его придётся продавать всю зиму и понемногу, только тогда удастся что-то выручить.
Малисон с готовностью заявил, что готов помочь капитану пускай себе в убыток, лишь бы тому не пришлось везти невостребованный товар назад или продавать трактирщикам за бесценок. Кроме того, у купца тоже имелось в запасе для Парсонса кое-что особенное.
Свои личные дела капитан привык обстряпывать не мешкая. Поднялись на шканцы. Боцман был тут как тут, ожидая распоряжений. Парсонс приказал выгрузить на берег десять ящиков. Пока боцман поднимал матросов, Малисон достал кисет и предложил капитану раскуриться. Набили трубки. Парсонс крикнул вахтенному принести с бака огня, там возле бочки всегда тлел фитиль. Стояли, дымили трубками, пока матросы выволакивали из люка небольшие ящики. Оттуда из стружек торчали горлышки тёмного стекла, залитые сургучом. За толстые верёвочные ручки ящики отнесли на пристань. Настал черёд купца.
Попыхивая трубкой, Малисон сошёл на берег. За Королевской улицей, возле бордингауза «Бухта радости», в котором могли кинуть якорь отставшие от корабля моряки, промочить глотку и насладиться радостями жизни, кои щедро продавали финские крестьянки из окрестных деревень, стояли телеги. Там же ночевали извозчики и был сенной рынок. Мужики из Спасского подряжались возить грузы с корабля или на корабль в любое время. Над дверью была прибита еловая ветка, чтобы даже неграмотный мог понять – здесь наливают и пьют.
Повезло тому, кто не пил пиво в «Бухте радости» и не спал на телеге. Самый шустрый – Евгеня Петров сын, которого все звали Петрович, подскочил к Мали-сону. Условились. Новенькая, опрятная телега Петровича прогремела ободьями по плахам причальной стенки и лихо остановилась возле ящиков.
Отдав распоряжения, капитан Парсонс сошёл на берег, взяв с собою матроса. Погрузили ящики, сели. Петрович повёз. Молодой конёк резво тянул хомут. Малисон вёл досужий разговор о том, сколько кораблей приходило в Ниен этим летом, да чего привезли русские купцы. Парсонс в свой черёд рассказал, как попал в шторм в Бискае. Поглядывая на англичан, Малисон думал, насколько они похожи. Старый матрос с такой же, как у его капитана, бородой, растущей где-то понизу, а усы, щёки и подбородок выбриты, – был одет почти так же, только в серое сукно, да в короткую куртку, а не кафтан. На капитане была шляпа с загнутыми треугольником полями, а на матросе – суконная шапка с толстым шерстяным шаром, который берёг башку от удара по маковке. Да башмаки у матроса были совсем изношены, а у шкипера почти новые, с надраенной медной пряжкой. Должно быть, выходные. У матроса большая золотая серьга в ухе – запас на пропой. Больше моряки английского торгового флота друг от друга ничем не отличались, и их можно было принять за братьев.
Возле лавки «Бери у Малисона» встали. Яакко уже выглядывал из дверей. Матрос с бобылём быстро снесли ящики в магазин.
– Заедем на обратном пути, – Малисон хотел, чтобы его видели подъезжающим к дому и уезжающим налегке. Вести торг дозволялось только на рынке. Если соседи донесут о продаже с рук, в ратуше взыщут крупный штраф.
Петрович остановил у ворот. Малисон открыл калитку, пропустил сначала матроса, потом по старшинству – капитана. Большая, высокая изба Егора Малисона выделялась в ряду домов Выборгской улицы, а рама со стёклами добавляла красы.
Купец запустил гостей в сени, раскрыл дверь в жилую часть. Указал матросу на лавку.
– Следи, чтобы ничего не спёр, да налей ему пива, – сказал он по-фински жене и повёл капитана в свётелку, где хранилось ценное добро.
Второе оконце с наборными цветными стёклышками произвело впечатление на капитана тем более значительное, что, по его наблюдениям, дальний край был беден и не обжит. Если купец в таком городе мог выкинуть немалые деньги на выходящий во двор витраж, значит, он преуспевал, и с ним следовало иметь дело.
Перво-наперво купец достал из сундука великолепный подбой собольего меха, крытый атласом.
– Для тебя берёг. Никому не предлагал, – с английской честностью сказал он Парсонсу.
Лестью шкипера было не купить, а вот красота пушнины и расценки на неё у лондонских купцов проняли капитана до глубины души. Цокая языком, он оглаживал блестящий мех, слабо возражая Малисону, заломившему сто тридцать пять далеров при разумной цене в сто двадцать, однако торгуясь упрямо.
Сошлись на шестидесяти пяти, ударили по рукам. И тогда купец раскрыл закрома.
Он доставал из сундуков горностаевые, куньи, хорьковые и лисьи шкуры. Нарочно было отложено три десятка собольих хвостов. Нашёлся даже бобёр и рысь, впрочем, не тронувшие сердце шкипера. Хвастались, искали изъяны, не находили, спорили, переходя на английский и в пылу отлично понимая друг друга, потом возвращались на платтдойч и сговаривались. Малисон раскрыл восковую дощечку, которую держал в качестве запасной наготове в сундуке как раз для таких случаев. Острой палочкой записывал, что в какую цену сторговали.
Шкуры и меха, оцененные Малисоном с умеренной алчностью, после короткого торга переходили в собственность англичанина с малой скидкой. С затаённой завистью купец гадал, какую прибыль капитан извлечёт, сбыв пушнину в Англии, и не прогадал ли он сам в этом году с ценою.
Купец избавился от рухляди, и на душе стало легче. Меха не побил червь, англичанин хватал их обеими руками. Малисон рассчитывал сбыть лежалый товар в магазине. Такого покупателя, как капитан Парсонс, Бог раз в три года посылает, и даром Господним надо было пользоваться до дна, хотя бы из уважения ко Всевышнему.
Захлопнул дощечку, сунул под мышку. Позвали матроса. Он вошёл и рот разинул.
Одно слово – англичанин!
Пушнину уместили в два мешка. Матрос взял один в одну руку, другой в другую и так вынес в телегу.
Забрались сами. Петрович повёз. Соседи были все на рынке, но бабы их смотрели, кто приехал, с чем уехал. Малисон навета не боялся, ибо не нарушал городской запрет. Он всегда мог сказать, что обсуждал с капитаном цену. Вести дома переговоры не возбранялось. Пушнину всё равно придётся доставить в магазин, где она дополнит покупку кож и воска. Если от лавки уедет нагруженная телега и потом туда же привезёт ящики с вином, сделка будет совершена по всем правилам.
И оба были рады, что впарили противной стороне залежавшийся товар.
Ты и я
– Ты не перегнул с ними, Калле? – Когда никого рядом не было, старший письмоводитель и юстиц-бургомистр вели себя по-приятельски. Слишком много сотворено в Нюрнберге, слишком много знали друг о друге, и теперь обоим нечего было скрывать.
– Сёдерблум бесполезен. Он будет только мешаться. – Бургомистр наморщил лоб, толстые складки легли буграми, У него было мясистое лицо, длинный широкий нос мясника и узкие губы бесчувственного человека. – Я не стану его тормошить, пусть занимается делами города. Там, где не надо принимать серьёзных решений, он чувствует себя как рыба в воде. От расследования случая с дочерью шорника Сёдерблум отмахнётся. Ты, Клаус, будешь возиться в грязи. Чувствую, нам всем оно принесёт несчастье. Это не простое убийство.
– А ты? – вскинул глаза Хайнц.
– И я, – Грюббе покивал. – Конечно же, я. Но на тебя я возлагаю большие надежды. Многие, слишком многие будут разговаривать с тобой, а не со мной. Поспрашивай ремесленников. Они тебя не любят, но им ты кажешься безобидным, а меня не любят и боятся. Пастора они любят, он их понимает, но его преподобие не может рассказать нам, что говорят ему на исповеди. Фогта любят, но не уважают, поэтому не будут с ним откровенны. Да он и не способен задавать правильные вопросы. Ленсман Штумпф – вот кто умеет копать, этим он и займётся у себя за рекой. А ты поговори с соседями Тилля Хооде: с кем они видели Уту позавчера, с кем она дружила, кто заходил к ним в последние дни, не было ли у шорника трений с крестьянами или моряками?