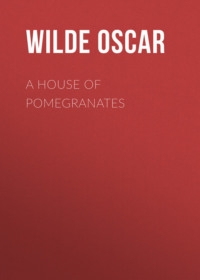Полная версия
– Не обращайте на него внимания, дорогая моя, – шепнула ей леди Агата, – он сам никогда не верить тому, что говорит.
– Когда Америка была открыта… – начал радикал и принялся за перечисление каких-то скучных фактов. Подобно всем людям, старающимся исчерпать сюжет, он только исчерпывал внимание своих слушателей. Герцогиня вздохнула и прибегла к своей привилегии прерывать говорящих.
– Я бы от души хотела, чтобы Америка никогда не была открыта! – воскликнула она. – В самом деле, теперь шансы наших молодых девушек совсем упали. Это несправедливо.
– Может быть, в конце концов, Америка совсем и не открыта, – вставил мистер Эрскин. – Я бы скорее сказал, что она еще только замечена.
– О! Но я видела представительниц ее населения, – томно ответила герцогиня, – и я должна сознаться, что большинство из них замечательно красивы. И к тому же они хорошо одеваются, они все свои туалеты выписывают из Парижа. Я бы сама хотела иметь на это средства.
– Говорят, что, когда добрые американцы умирают, они отправляются в Париж, – посмеиваясь, проронил сэр Томас, у которого был неистощимый запас поношенных острот.
– В самом деле? А куда же после смерти деваются дурные американцы? – осведомилась герцогиня.
– Они отправляются в Америку, – ответил лорд Генри.
Сэр Томас нахмурился.
– Боюсь, что ваш племянник предубежден против этой великой страны, – сказал он леди Агате. – Я ее изъездил вдоль и поперек в салон-вагонах железнодорожных директоров, – директора в этом отношении чрезвычайно любезны. Уверяю вас, поездка по Америке имеет большое образовательное значение.
– Но неужели мы непременно должны увидеть Чикаго, чтобы стать образованными? – жалобно спросил мистер Эрскин. – Мне, право, совсем не по силам такое путешествие.
Сэр Томас махнул рукой.
– Для мистера Эрскина из Трэдди весь мир сосредоточен на его книжных полках. Мы же, люди жизни, предпочитаем видеть вещи воочию, а не читать о них. Американцы чрезвычайно интересный народ. Они в высшей степени разумны. Мне кажется, это их отличительная черта. Да, мистер Эрскин, они абсолютно разумный народ. Уверяю вас, что американцы не знают, что такое нелепость.
– Как это ужасно! – вмешался лорд Генри. – Я могу вынести грубую силу, но грубый разум совершенно для меня невыносим. В пользовании им есть что-то нечестное. Он гораздо ниже интеллекта.
– Я вас не понимаю, – проговорил сэр Томас, краснея.
– А я понимаю лорда Генри, – улыбаясь, тихо сказал мистер Эрскин.
– Парадоксы все хороши в своем роде! – откликнулся баронет.
– Разве это был парадокс? – спросил мистер Эрскин. – я этого не думаю. Может быть, это и так, так ведь путь парадоксов – путь истины. Чтоб испытать действительность, ее надо видеть на туго натянутом канате. Когда истины становятся акробатами, мы можем судить о них.
– Боже мой, – сказала дяди Агата. – Как вы, мужчины, спорите. Я уверена, что никогда, не пойму, о чем это вы говорите. Ах, Гарри, я на вас в страшной обиде. Зачем вы стараетесь убедить нашего милого мистера Дориана Грея бросить Ист-Энд? Уверяю вас, он был бы для нас просто бесценен. Его игра так понравилась бы всем!
– Я хочу, чтобы он играл для меня, – сказал, улыбаясь, лорд Генри, взглянув на другой конец стола и получив ответный радостный взгляд.
– Но ведь они все так несчастны в Уайтчепеле, – продолжала леди Агата.
– Я могу сочувствовать всему, только не горю людскому! – сказал лорд Генри, пожимая плечами. – Горю я сочувствовать не в силах. Оно слишком некрасиво, слишком ужасно, слишком подавляюще. В том, как в наши дни люди сочувствуют горю, есть что-то ужасно болезненное. Следовало бы сочувствовать краскам, красоте, радостям жизни. Чем меньше сокрушений о язвах жизни, тем лучше.
– Однако же Ист-Энд – очень важная проблема, – заметил сэр Томас, внушительно покачивая головой.
– Совершенно верно, – ответил молодой лорд. – Это проблема рабства, а мы стараемся разрешить ее, забавляя рабов.
Политик проницательно взглянул на него.
– Что же вы в таком случае предлагаете взамен? – опросил он.
Лорд Генри рассмеялся.
– Я ничего не хочу менять в Англии, кроме погоды, – ответил он. – Я совершенно довольствуюсь философским созерцанием. Но так как XIX век обанкротился благодаря перерасходу сострадания, то я бы предложил обратиться к науке, чтобы она нас направила на верный путь. Преимущество чувств в том, что они вводят нас в заблуждение; преимущество же науки в том, что она лишена чувствительности.
– Но ведь на нас лежит такая серьезная ответственность, – робко вставила миссис Ванделёр.
– Ужасно серьезная, – повторила, как эхо, леди Агата.
Лорд Генри взглянул через стол на мистера Эрскина.
– Человечество относится к себе слишком серьезно. Это первородный грех мира. Если бы пещерные люди умели смеяться, вся история сложилась бы иначе.
– Вы всегда говорите такие приятные вещи! – проговорила герцогиня. – Я до сих пор немного стыдилась пред вашей милой тетушкой за то, что мне совсем не интересен Ист-Энд. Теперь я буду в состоянии смотреть ей в глаза не краснея.
– Румянец всегда очень к лицу, герцогиня, – заметил лорд Генри.
– Только в молодости, – ответила она. – Когда краснеют старушки, вроде меня, то это всегда очень дурной признак… Ах, лорд Генри, хотела бы я, чтобы вы научили меня, как снова сделаться молодой!
Он с минуту подумал.
– Можете вы припомнить какое-нибудь крупное прегрешение, совершенное вами в ранние годы, герцогиня? – спросил он, смотря на нее через стол.
– Даже, боюсь, очень многие! – воскликнула она.
– Так совершите их все опять, – серьезно проговорил он. – Чтобы вернуть свою юность, надо просто только повторить свои безумства.
– Восхитительная теория! – воскликнула герцогиня. – Я непременно осуществлю ее на практике!
– Опасная теория! – сорвалось со сжатых губ сэра Томаса.
Леди Агата покачала головой, но не могла воздержаться от улыбки. Мистер Эрскин слушал.
– Да, – продолжал лорд Генри. – Это одна из великих тайн жизни. В наши дни большинство людей умирает от излишества здравого смысла и открывает, когда уже бывает слишком поздно, что единственное, о чем никогда не жалеешь, – это наши заблуждения.
За столом все засмеялись.
Лорд Генри стал своенравно играть этой мыслью, жонглировать ею и трансформировать, то оставляя ее, то вновь возвращаясь к ней; он расцвечивал ее красками сияющей фантазии и окрылял парадоксами. Хвала безумию, по мере того, как он развивал свою мысль, превратилась в философию, а сама философия помолодела и, подхватив безумный мотив наслаждения, в наряде, залитом вином, и в плющевом венке, в вакхическом танце понеслась по холмам жизни, издеваясь над трезвостью медлительного Силена. Факты разлетались перед ней, как испуганные духи лесные. Ее белые ноги попирали виноград гигантской давильни, на которой восседал мудрый Омар, и виноградный сок кипящей волной пурпурных пузырьков омывал их и красной пеной выступал на черных, отлогих краях чана. Это была необыкновенная импровизация. Лорд Генри чувствовал, что глаза Дориана Грея устремлены на него, и сознание, что среди его слушателей находится человек, инстинкты которого он желал разбудить, как будто обостряло его ум и обогащало красками его воображение. Речь его была блестяща, фантастична, неудержима. Он совершенно загипнотизировал своих слушателей, и они, смеясь, послушно следовали за его свирелью. Дориан Грей ни на минуту не сводил с него глаз; он сидел, как завороженный, на губах его сменялись, словно гоняясь друг за другом, улыбки, и удивление застывало в его темнеющих глазах.
Наконец действительность в современном костюме вошла в комнату в образе лакея, доложившего герцогине, что карета ждет ее внизу.
Герцогиня в шутливом отчаянии заломила руки.
– Как досадно! – воскликнула она, – Мне надо уехать. Я должна заехать за своим мужем в клуб, чтобы отвезти его на какой-то глупый митинг в Виллис-Румс, где он будет председательствовать. Если я опоздаю, он, наверное, рассердится, а я не хочу сцены, когда на мне эта шляпка – она слишком для этого хрупка. Одно грубое слово ее разрушит. Нет, я должна ехать, дорогая Агата. Прощайте, лорд Генри; вы прямо прелесть и ужасно развратительны. Я положительно не знаю, что сказать о ваших взглядах. Вы должны как-нибудь прийти пообедать с нами. Во вторник. Вы свободны во вторник?
– Для вас я бы всех бросил, герцогиня, – проговорил лорд Генри с поклоном.
– А! это очень мило и очень дурно с вашей стороны, – сказала она. – Значит, вы придете? – И она выплыла из комнаты в сопровождении леди Агаты и других дам.
Когда лорд Генри снова опустился: на стул, мистер Эрскин обошел вокруг стола и, сев рядом, дотронулся до его руки.
– Вы говорите лучше всякой книги, – сказал он: – почему вы не напишете книги?
– Я слишком люблю читать книги, чтобы иметь желание их писать, мистер Эрскин. Я бы, конечно, хотел написать роман, который был бы так же очарователен, как персидский ковер, и такой же нереальный. Но в Англии читатели есть только на газеты, учебники и справочные словари. Изо всех народов мира англичане одарены наименьшим пониманием литературных красот.
– К сожалению, мне кажется, вы правы, – ответил мистер Эрскин. – Я сам когда-то имел литературные стремления, но уже давно их оставил. А теперь, мой дорогой, юный друг, если позволите так вас назвать, могу я вас спросить, действительно ли вы верите во все то, что вы говорили за завтраком?
– Я совсем забыл, что я говорил, – улыбнулся лорд Генри. – Это было что-нибудь очень дурное?
– Очень дурное, действительно. В сущности, я считаю вас чрезвычайно опасным, и, если с нашей милой герцогиней что-нибудь случится, мы все сложим вину на вас. Но мне хотелось бы поговорить с вами о жизни. Мое поколение было такое скучное. Как-нибудь, когда вы устанете от Лондона, приезжайте к нам в Трэдли и изложите мне вашу философию наслаждения за стаканом чудесного бургундского, которым я, но счастью, обладаю.
– Мне будет очень приятно. Посещение Трэдли доставило бы мне редкое удовольствие: он имеет прекрасного хозяина и прекрасную библиотеку.
– Вы ее пополните, – ответил старый джентльмен с любезным поклоном. – А теперь я должен проститься с вашей милой тетушкой. Мне пора идти в Атенеум-клуб. Это час, когда мы там дремлем.
– Все вы, мистер Эрскин?
– Сорок человек в сорока креслах. Мы готовимся в английскую литературную академию.
Лорд Генри рассмеялся и встал.
– А я поеду в парк! – воскликнул он.
Когда он выходил из комнаты, Дориан Грей тронул его за руку.
– Позвольте мне пойти с вами, – прошептал он.
– Но ведь вы, кажется, обещали Бэзилю Холлуорду зайти навестить его? – ответил лорд Генри.
– Я предпочел бы пойти с вами. Да, я чувствую, что я должен идти с вами. Возьмите меня с собою! И обещайте все время со мною разговаривать! Никто так не умеет говорить, как вы.
– Ах! я сегодня уж довольно наговорился, – улыбаясь, возразил лорд Генри. – Все, чего мне теперь хочется, это посмотреть на жизнь. Вы можете пойти и смотреть па нее вместе со мною, если хотите.
IV
Раз как-то после завтрака, месяц спустя, Дориан Грей отдыхал в роскошном кресле маленького кабинета у лорда Генри, в доме на Мэйфэр. Эго была в своем роде очаровательная комната, с высокими дубовыми панелями оливкового цвета, с кремовыми фризами и с рельефными украшениями на потолке. По затянутому кирпичного цвета сукном полу были разбросаны персидские шелковые коврики с длинной бахромой. На маленьком полированном столике стояла статуэтка Клодиона, а рядом лежал томик «Сто новелл» с многочисленными золотыми маргаритками на переплете, исполненном Клови Эвом для Маргариты Валуа, избравшей эти цветы своим девизом. Большие, синие фарфоровые вазы с тюльпанами украшали полку камина, а сквозь маленькие, оправленные в свинец, стекла окна проникал абрикосовый свет летнего лондонского дня.
Лорд Генри еще не возвращался. Он всегда опаздывал из принципа, основанного на том, что пунктуальность – похитительница времени. И поэтому юноша с немного недовольным видом рассеянными пальцами перелистывал страницы роскошно иллюстрированного издания «Манон Леско», которое он нашел в одном из книжных шкафов. Монотонное тиканье часов Louis XIV раздражало его. У него раза два даже являлось желание уйти.
Наконец послышались шаги в соседней комнате, и дверь отворилась.
– Как вы поздно, Гарри, – промолвил Дориан.
– Боюсь, что это не Гарри, мистер Грей, – проговорил резкий голос.
Он быстро обернулся и вскочил на ноги.
– Простите, пожалуйста, я думал…
– Вы думали, что это мой муж. А это только его жена! Позвольте мне самой вам представиться. Я вас отлично знаю по вашим фотографиям. Кажется, их у мужа семнадцать.
– Разве семнадцать, леди Генри?
– Ну, так восемнадцать. И я видела вас вместе с ним недавно в опере.
Она нервно смеялась при разговоре и смотрела на него своими бегающими глазами цвета незабудки. Это была странная женщина; платья ее всегда были как бы придуманы в порыве безумия и надеты как будто в бурю. Она всегда бывала в кого-нибудь влюблена, а так как страсть ее никогда не находила отклика, то она сохранила все свои иллюзии. Она старалась быть живописной, а выглядела только неряшливой. Звали ее Викторией, и она буквально была одержима манией хождения в церковь.
– Это было, кажется, на «Лоэнгрине», леди Генри?
– Да, это было на чудесном «Лоэнгрине». Я вагнеровскую музыку предпочитаю всякой другой. Она такая громкая, что можно говорить, и не слышно, что говорят другие. Это большое преимущество, не правда ли, мистер Грей?
Тот же отрывистый нервный смех сорвался с ее тонких губ, и пальцы ее начали играть длинным черепаховым разрезным ножом.
Дориан улыбнулся и покачал головой.
– К сожалению, не могу с вами согласиться, леди Генри. Я никогда не разговариваю под музыку, по крайней мере, под хорошую музыку. Если же слушаешь дурную музыку, то, конечно, это даже наша обязанность заглушать ее разговорами.
– Ах, это одно из мнений Гарри, не правда ли, мистер Грей? Я всегда слышу мнения Гарри от его друзей. Только таким путем я их узнаю. Но вы не должны думать, что я не люблю хорошей музыки. Я ее обожаю, но я боюсь ее. Она делает меня слишком романтичной. Пианистов я прямо-таки боготворю, иногда даже двух сразу, как уверяет меня Гарри. Не знаю, в чем тут секрет. Может быть, в том, что они большего частью иностранцы? Ведь, кажется, они все иностранцы? Даже те, что родились в Англии, становятся со временем иностранцами, не правда ли? Это так умно с их стороны и это так лестно для искусства. Это делает искусство совершенно космополитичным, не так ли? А вы ведь никогда, но были ни на одном моем вечере, мистер Грей? Вы непременно должны как-нибудь прийти. Мне, конечно, не по средствам орхидеи, но я не жалею расходов на иностранцев. Они придают комнатам такой живописный вид. Но вот и Гарри! Гарри, я искала вас, чтобы что-то спросить – не помню, о чем, – а встретила здесь мистера Грея. Мы так приятно поговорили о музыке! Мы совершенно сошлись во взглядах, – или нет, кажется, совершенно разошлись. Но он был чрезвычайно мил, и я очень рада была его встретить.
– Я также весьма рад, моя дорогая, весьма рад, – сказал лорд Генри, поднимая свои темные, изогнутые брови и с улыбкой поглядывая на обоих. – Очень жалею, что я опоздал, Дориан. Мне надо было посмотреть кусок старой парчи в Уардор-стрите, и я должен был несколько часов из-за него торговаться. Нынче люди знают цену всему, но не видят ни в чем ценности.
– Мне, пожалуй, придется вас покинуть! – воскликнула леди Генри, прерывая неловкое молчание своим глупым, неожиданным смехом. – Я обещала герцогине поехать с нею кататься. Прощайте, мистер Грей. Прощайте, Гарри. Вы, должно быть, обедаете не дома? И я также. Может быть, я увижу вас у леди Торнбери?
– Вероятно, дорогая моя, – сказал лорд Генри, запирая за ней дверь, когда она, с видом райской птицы, побывшей всю ночь на дожде, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах пачули. Затем он закурил папиросу и бросился па диван.
– Никогда не женитесь на женщине с волосами соломенного цвета, Дориан, – заметил он, сделав несколько затяжек.
– Почему, Гарри?
– Потому что они так сентиментальны.
– Но я люблю сентиментальных людей.
– Не женитесь никогда вообще, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства. И те и другие разочаровываются.
– Не думаю, чтобы я когда-нибудь женился, Гарри. Я слишком влюблен. Это один из ваших афоризмов. Я применяю его на практике, как, впрочем, и все, что вы говорите.
– В кого же вы влюблены? – спросил лорд Генри после паузы.
– В одну актрису, – краснея, ответил Дориан.
Лорд Генри пожал плечами.
– Это довольно банальный дебют.
– Вы бы этого не сказали, если бы увидели ее, Гарри!
– Кто же она такая?
– Ее зовут Сибилла Вэн.
– Никогда не слыхал о ней.
– И никто не слыхал. Но когда-нибудь все услышат. Она положительно гений!
– Милый мой, женщины вообще никогда не бывают гениями. Женщины – декоративный пол. Им всегда нечего сказать, но они это говорят очаровательно. они олицетворяют торжество материи над мыслью, точно так же, как мужчины – торжество мысли над моралью.
– Гарри, как вы можете…
– Милый Дориан, это совершенная правда. Я сейчас занимаюсь анализом женщин, и поэтому мне лучше знать. Вопрос не так сложен, как я полагал. Я нахожу, что в конце концов есть только две категории женщин: бесцветные и накрашенные. Первые очень полезны. Если хотите приобрести респектабельную репутацию, стоит только посидеть с ними рядом за ужином. Женщины второй категории весьма обворожительны. Впрочем, они совершают одну ошибку: они красятся, чтобы выглядеть моложе. Наши бабушки красились, чтобы уметь блеснуть разговором. Rouge и esprit[6] прежде бывали неразлучны. Теперь это все прошло. Раз только женщина может выглядеть на десять лет моложе своей дочери, она вполне удовлетворена. Что же касается умения говорить, то во всем Лондоне едва наберется пять женщин, с которыми стоит поговорить; да и то две из них не могут быть приняты в приличном обществе. Ну, а все-таки расскажите мне про вашего гения. Давно вы с ней познакомились?
– Ах, Гарри, ваши слова пугают меня.
– Не обращайте на них внимания. Давно вы с нею знакомы?
– Недели три.
– Где же вы с нею встретились?
– Я расскажу вам, Гарри, но вы не должны относиться к этому насмешливо. В конце концов, этого бы никогда не случилось, не встреться я с вами. Вы преисполнили меня дикой жаждой узнать жизнь. В следующие дни после нашей встречи что-то клокотало в моих жилах. Бродя по парку, или по Пикадилли, я вглядывался в каждого встречного, с безумным любопытством спрашивая себя, какую жизнь он ведет. Некоторые меня привлекали. Другие наполняли ужасом. В воздухе носился какой-то сладостный яд. У меня появилась страстная жажда каких-нибудь ощущений… Однажды вечером, часов в семь, я решил выйти на улицу в поисках за каким-нибудь приключением. Я чувствовал, что наш серый, чудовищный Лондон, с его мириадами людей, с его темными грешниками и блестящими грехами, по вашему выражению, что-нибудь имел в запасе и для меня. Я представил себе тысячи разных вещей. Самая опасность наполняла меня чувством наслаждения. Я вспомнил все, что вы говорили мне в тот чудный вечер, когда мы в первый раз обедали вместе, – о том, что поиски красоты составляют истинную тайну жизни. Не знаю, чего я, собственно, ожидал, но я вышел из дому, побрел к восточной части города и вскоре заблудился в лабиринте грязных улиц и пыльных скверов, без малейшего признака травы. Около половины девятого я проходил мимо какого-то нелепого театрика, с большими, яркими газовыми фонарями и пестрыми афишами. Мерзостный какой-то еврей, в самом удивительном жилете, – я в жизни не видел такого! – стоял у входа, куря какую-то гнусную сигару. У него были лоснящиеся пейсы, а на пластроне его грязной рубашки сиял громадный бриллиант. – «Не угодно ли будет ложу, милорд?» – предложил он мне, снимая шляпу с видом изысканной вежливости. В нем было что-то такое, что меня очень забавляло, Гарри: это было совершенное чудище! Я знаю, что вы будете надо мною смеяться, но я действительно вошел и заплатил целую гинею за литерную ложу. И до нынешнего дня я еще не могу себе объяснить, почему я это сделал; а между тем, если бы я этого не сделал, я прозевал бы величайшее увлечение моей жизни. Я вижу, вы смеетесь. Это ужасно с вашей стороны!
– Я не смеюсь, Дориан; по крайней мере, не смеюсь над вами. Но вы не должны говорить: «величайшее увлечение моей жизни». Скажите – «первое». Вас всегда будут любить, и вы всегда будете влюблены в любовь. «Une grande passion» – привилегия людей, которым нечего делать. Это единственное занятие для нетрудящихся классов страны. Но бойтесь. Вас ждут впереди восхитительные вещи. Это только начало.
– Неужели вы думаете, что у меня такая неглубокая натура? – гневно воскликнул Дориан Грей.
– Нет, я именно думаю, что она у вас глубокая.
– Что вы хотите сказать?
– Милый мальчик, люди, которые любят лишь один раз в жизни, – именно неглубокие люди. То, что они называют верностью и честностью, по-моему – только летаргия привычки или недостаток воображения. Верность в чувствах – то же самое, что постоянство в мысли, – просто признание своего бессилия. Верность! Я должен когда-нибудь в ней разобраться. В ней страсть к собственности. Есть много вещей, которые мы выкинули бы, как ненулевые, если бы не боялись, что кто-нибудь другой их подберет. Но я не хочу прерывать вас. Продолжайте ваш рассказ.
– Хорошо; так я очутился в скверной, маленькой ложе, на самой сцене, с гадким занавесом перед глазами. Я заглянул за занавес и оглядел театр. Это было мишурное сооружение, все в купидонах с рогами изобилия, точно свадебный торт третьего разряда. Галерея и амфитеатр были почти полны, но оба ряда обтрепанных кресел партера были пусты, а в том, что они называли балконом, не было почти ни души. Какие-то женщины разносили апельсины и имбирное пиво, а вся публика усердно уничтожала орехи.
– Это, должно быть, совершенно напоминало славные дни британской драмы?
– Может быть, но тем не менее это производило удручающее впечатление. Я начинал уже задумываться, что мне предпринять, как вдруг обратил внимание на афишу. И как бы вы думали, Гарри, что они играли?
Ну, что-нибудь в роде «Мальчик-идиот, или Нем, но невинен». Кажется, отцам нашим нравились такие пьесы. Чем больше я живу, Дориан, тем все больше убеждаюсь, что то, что годилось для наших отцов, никуда не годится для нас. В искусстве, как и в политике, les grand-peres ont tojours tort[7].
– Пьеса была достаточно хороша и для нас, Гарри.
Это была «Ромео и Джульетта». Должен сознаться, что сначала мне стало обидно за Шекспира, исполняемого в такой скверной дыре. И все же я был несколько заинтересован. Во всяком случае, я решил дождаться первого действия. Оркестр был ужасный, управлял им молодой еврей, сидевший за расстроенным пианино, которое чуть меня не выгнало; но наконец поднялся занавес, и представление началось. Ромео изображал плотный толстый человек, с наведенными жженой пробкой бровями, с хриплым, трагическим голосом; фигура была у него, точно пивной бочонок. Меркуцио был так же плох. Его играл какой-то комедиант, который вводил отсебятину и, казалось, был в весьма фамильярных отношениях с амфитеатром. Оба они были так же нелепы, как и декорации, которые как будто попали туда из деревенского балагана. Но Джульетта! Гарри, вообразите себе девушку едва семнадцати лет, с нежным, точно цветок, маленьким личиком, с маленькой греческой головкой, с пышными косами темно-каштановых волос; у нее глаза – точно фиалковые колодцы страсти, у нее уста, как лепестки розы. Она была самым дивным созданием, какое мне пришлось встретить в жизни. Вы говорили мне однажды, что пафос на вас не действует, но что красота, одна красота могла бы вызвать на глаза ваши слезы. Гарри, говорю вам, я едва мог видеть эту девушку от слез, затуманивших мне глаза. А ее голос, – я никогда не слыхал подобного! Сначала он был очень тихий, с глубокими, ласкающими нотами, которые как будто сами входят в ухо слушателя. Потом он стал громче и зазвучал, словно флейта или отдаленный гобой. А когда дошло до сцены в саду, в этом голосе звучала вся нега и дрожь экстаза, которую слышишь перед зарей, когда ноют соловьи. А потом были моменты, когда в нем отдавалась дикая страсть скрипок. Вы знаете, как может волновать голос, – ваш голос и голос Сибиллы Вэн, вот чего я никогда не забуду. Когда я закрываю глаза, я слышу эти голоса, и каждый из них говорит мне разное. Я не знаю, которого слушаться. Почему мне не любить ее? Гарри, я люблю ее! Она для меня все в жизни! Каждый вечер я хожу туда и смотрю, как она играет. Один вечер она – Розалинда, другой – Имогена. Я видел ее умиравшей во мраке итальянского склепа, пившей яд с губ своего возлюбленного. Я следил за ее странствованиями в лесах Ардена, в костюме хорошенького мальчика, в курточке, трико и изящной шапочке. Безумной она являлась перед преступным королем, подавая ему руту и горькие травы. Она была невинна, и черные руки ревности терзали ее тонкую, как тростник, шею. Я видел ее во все времена, во всех костюмах. Обыкновенные женщины никогда не говорят столько воображению: – они ограничены своим веком. Никакое волшебство их не преображает. И их мысли вскоре узнаёшь так же хорошо, как и их шляпки. Их всегда можно разгадать. Ни в одной из них нет тайны. Утром они катаются в парке, а днем болтают за чаем, с вечной стереотипной улыбкой по модному образцу. Они, положительно, все как на ладони. Но актриса! Как не похожа на них актриса! Гарри, почему вы никогда не говорили мне, что единственно кого стоит любить, это – актрису!